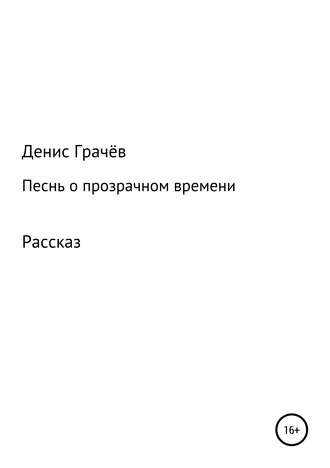
Денис Александрович Грачёв
Песнь о прозрачном времени
Вскоре я въехал в Михнево, тот самом небольшой городишко, где мне суждено было увековечить своё имя. Долго-долго переходил я мост, соединяющий через полотно железнодорожных путей кирпично-каменное тело города с маловразумительным деревянным аппендиксом, за чьей спиной начинались обросшие диким злаком поля, в которых утоплены крохотные наделы обработанной земли с созревающими в её чреве плодами картофеля, свеклы и репчатого лука, а сразу за этими полями, после прозрачненькой дымчатой рощицы и пустынной одноколейки расстилалась тёмная чаща с едва различимыми, будто водяные знаки на банкноте, тропинками, вкривь и вкось ведущими путника к окраине чаемого мною дачного посёлка.
Я мужественно прошел узкими, как траншеи, древесными улицами к открытому простору одноцветных полей, и если не при первом, то определённо начиная с третьего взгляда на унылую эту флору, уже начавшую предусмотрительно подсыхать в предчувствии неизбежной якобы осени, мне задышалось легко, будто перед смертью. Я шагал по дорожке, протоптанной «уазиками» и коровами, не слыша себя и своего страха, увлечённый той авантюрной лёгкостью, которую дают наплывы настоянного на травах ветра и щебет невидимых птиц, растворённых в воздухе, земле и окрестных деревьях.
А хорошо ведь, правда, когда птичка так голосом играет? Мне бы так. Хотя, кто знает: скучал бы я, как она – может, и научился так же горлышком делать. Скука – это великая милость и неисчерпаемый кладезь вдохновения, и, ей-Богу, есть и в моей обделённости этим вдохновением что-то обидное до слёз: ведь в те сладкие часы скуки, снисходившие на меня пару-тройку раз в протяжении детства, я выучился туманности распылённых по листу букв слагать в цепкие ряды слов, я открыл, как Америку, акварельные краски и радость перводемиурга, броуновское движение забавных случаев свивающего в медленный и сладкий смерч захватывающей сказки, которую даже Марина Николаевна и Раиса Евгеньевна, мои детсадовские воспитатели, вынуждены слушать открыв рот. Обделённость скукой – это, конечно, наследственное, это, конечно, избыток маминых генов, ведь именно ей, бедной моей мамочке, в мутной своей задумчивости успевающей тридцать три раза на дню поговорить с пустотой, не суждено познать счастья тоски…
Нет, всё-таки интересно: что же это птичка со своим горлышком делает?
И я вошёл в лес, как в тёплую воду. Чуть двигались вокруг малахитовые листочки; стволам деревьев, переколдованным стремительно соскользнувшим с зенита светилом в нефрит или янтарь – в зависимости от персональной удачливости – невозможно было казаться более строгими, как невозможно было никому в этом мире взять ту планку спокойствия, которая мною была взята без разбега, одним широчайшим рывком души. (Боже мой, как я всё-таки вырос за этот день, как было бы хорошо вернуться когда-нибудь домой вот таким, благородно повзрослевшим, в беретике, лихо сдвинутом с точки равновесия.) Невыразительная тропинка, ослабшая под натиском лесных растений, крутясь и забалтываясь, медленно вела меня, и впервые, быть может, за всю свою жизнь мне страстно возжелалось, чтобы медленность стала ещё медленней, чтобы она замедлилась до полной обездвиженности: ведь с каждым моим шагом дачный посёлок приближался, а встреча с Серым волком, ещё на опушке леса столь реальная, неуклонно откатывалась в тень, отбрасываемую кровлей несбыточности.
Я вышел к самому посёлку, но, увидев уже первые дома, крепкими телами наступившие лесу на пятки, свернул на боковую, совсем пунктирную тропку и проблуждал под лучами убывающего солнца ещё добрую половину часа. Не было его. Как корова языком слизнула. В самом деле, как же это я не подумал: ведь, возможно, он целый день спит, а на прогулку, как любой хищник, отправляется ночью? От этой мысли, оскорбительной своей очевидностью, мне на секунду сделалось жарко, и я, в три шага одолев приличный кусок леса, промчался сонными улочками, еле успевая огибать углы выпирающих домов, завернул раз, другой, третий, вышел на финишный отрезок (куча песка, водонапорная дылда, потертый «фольксваген», приткнувшийся к воротам лоб в лоб) – наконец, насквозь пролетев садик, открыл дверь, наскоро стерев о половик налипшую на подошвы труху, ворвался в кухоньку, которой, как эпиграфом, открывался Асин дачный домик, и с порога, тёпленьким, был подхвачен низким, приятным голосом:
– Ну наконец-то, голубчик. А я уже, право, заждался.
Конечно, он не мог не заждаться, памятуя о моём бестолковом кружении меж осин и клёнов, и он, сложнейший, не мог почтить меня больше, нежели выговорив свою мысль столь обескураживающе просто, ибо любому известно, что просто говорят лишь дети, идиоты и те, чьё сердце наполнено радостью. Поэтому вместо того чтобы испугаться, я облегчённо выдохнул и, сдерживая рвущееся от недавней спешки дыхание, выдавил искусственно выровненным голосом:
– Я торопился.
Он сидел на стуле рядом с обеденной тумбочкой и был виден полностью, от головы до хвоста, скроенный в ателье Господа Бога по столь впечатляюще индивидуальным лекалам, что оторопь восхищённого страха должна бы молнией пронзить любого среднечеловеческого обладателя белкового тела, рикошетом взглянувшего на моего визави. И было отчего. Раскроем алфавит, чтобы случайность, неутомимая труженица, помогла, хватко выхватив из него горячие, как каштаны, но пока не причастные ни к чему буквы, тремя высокоточными мазками набросать абрис нашего гостя. Итак, четыре, одиннадцать, девятнадцать5 – вот наш лотерейный поводырь: Глаза, прикрытые той плёнкой старческой нездешности, что сближает их вдруг, но обоснованно с марсианским минералом, обожжённым на медленном огне тысячелетней мудрости; куриные Ноги, залихватски закинутые одна на другую; рыбий Хвост, где плотно друг к другу пригнанная чешуя серебряной кольчугой в неуязвимость обращала нежное тело6. Закроем алфавит: он не понадобится нам более.
– Подойди-ка поближе, – попросил меня Волк, и когда я, смущённый, решительный, нерешительный, шагнул к нему, он, одним цепким прищуром словно бы запечатлев меня в полный рост, строго проговорил: – Ты зачем же бабушку обманул?
Изо рта у него пахло цветами, и в душном воздухе, роившемся в стеклянно-деревянной коробочке, этот пронзительно-тёплый аромат словно бы приоткрывал щёлочку из сумеречной спальни в ярко освещённую гостиную.
– Я ничего не обещал ей.
– У-у, маленький, такая наивность тебе не к лицу, и, будь она искренней, я счёл бы это оплошностью бо́льшей, нежели твоё возмутительное пренебрежение возложенной ответственностью, ответственностью, повторяю, чей груз ты столь легкомысленно попытался не заметить. Для тебя, возможно, это и окажется новостью – что, впрочем, никак не может послужить поводом для оправдания, – но ведь мы вместе – и ты, и я – части одной истории, которую некто мудро-коварный, о чьём существовании я смутно догадываюсь, принимая во внимание хотя бы факт удивительной сцепленности моей речи, безо всяких на то усилий с моей стороны сжатой в точку абсолютной точности, но обратиться к кому я могу лишь здесь, на этой веранде, декорированной под интерьер чеховской пьесы. Так вот, снова произнося неизвестное тебе слово «ответственность», я одновременно объясняю и уверяю. Объясняю тебе, что твоё опрометчивое непослушание изъяло изрядный кусок той истории, в которой мы оказались повелением чужой царственной фантазии, оставив после себя, таким образом, внушительную дыру, залатыванием которой я сейчас спешно займусь; и уверяю могучий пристальный взгляд, вознесённый высоко над бумажным листом, что соломоново решение, считающееся, с одной стороны, с тем грехом, каким является убиение нерождённой истории, и – с другой, более сложной стороны – с неизбежностью её счастливой концовки, уже тщательно выпестовано. Конечно, малыш, твоё сумасбродное желание не может не быть выполнено, и завтрашние календари, к вящему изумлению их владельцев, повсеместно перекинутся с двадцать третьего августа на первое июня. Но вместе с тем ты наверняка понимаешь, что несправедливо было бы оставить твой проступок без должного воздаяния. Итак, за де ло.
С этими словами Серый вытащил из какой-то не замеченной мною пазухи своего тела крупный старый будильник с бугристыми боками цвета начищенной латуни.
– Держи. Он уже стоит на семи утра, чтобы тебе не проспать. Вот билет на завтрашний экспресс до Варшавы. Там тебя встретят и вручат обратный билет, после того как ты передашь вот этот небольшой пакет.
– Что это? – спросил я автоматически, ощупывая плотную промасленную бумагу. Серый, по видимости, не ожидавший вопроса, споткнулся о своё последнее слово, но, тут же опомнившись, недовольно буркнул, несколько притушив интонацию:
– Сушёные заячьи лапки. – И, помявшись ещё мгновение, неохотно добавил: – Бегал тут один заяц…
– Спасибо, – тихо проговорил я. – У меня тоже для вас есть кое-что.
– Конфетка? – он зорко, словно фотографируя на долгую память, вгляделся в этот обманчиво-невинный сгусточек, обёрнутый разлюлималиновым фантиком. – Благодарствую. Дома откушаю с чайком…
Он замолчал, и в наступившей тишине, цельной, словно только что снесённое яичко, лишь будильник, методичный, как дьяк, отчитывающий покойника, пробивал еле заметные трещинки. Соревнуясь в покорности судьбе, мы оба, чемпионы тактического лицемерия, глядели друг на друга затаив дыхание, пока, наконец, волк не промолвил, сквозь свои минералы пристально изучая мои живые карие глазки:





