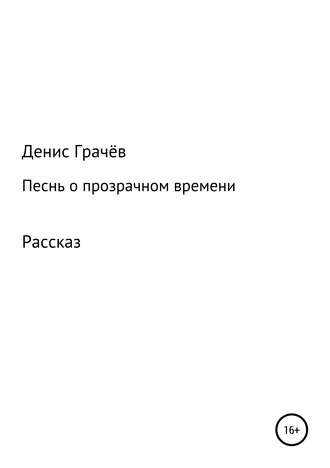
Денис Александрович Грачёв
Песнь о прозрачном времени
– Стоп, – сказала бабушка. – Хватит меня забалтывать. В твоем возрасте естественно быть проворным, но не нужно пытаться сыграть на прыткости своей мысли и оставить меня в дураках – правила здесь задаются мною, и потому, будь милостив, возьми свою мысль под уздцы и заостри внимание на слове «подвиг». Это покажется странным – во всяком случае, для тебя, несмышленого карапуза, – но мне весьма важно знать, насколько опрометчивым было это словцо, вылетевшее в горячке бессознательной детской болтливости из твоих безрассудных уст.
– Нет, бабушка, тут и не пахло безрассудством, – ответил я твёрдо, поскольку моё смекалистое малодушие радо было почувствовать себя обнадёженным, когда мрачный холод откатился от сердца и цепенил теперь лишь предплечье, властно сжимаемое старухой, – нет, нет и нет, – ответил я жалобно, если не сказать умоляюще, коварной мухе, которая по видимости понимала мизансцену гораздо глубже своей наперсницы и в холодной недоверчивости взирала на меня с жутковатым крысиным оскалом на лице, – я не случайно произнёс слово подвиг: те книги, что читались мне бабушкой и папой, дали достаточно поводов, чтобы в совершенстве изучить характер и повадки этой коварной лексемы. Увы, у меня нет меча, а в окру́ге не живёт ни одного даже захудалого дракона, отсечение неразумной чьей головы могло бы пройти по ведомству упомянутого деяния. Мой возраст сделал бы комичным освобождение томящейся в замке принцессы, а поход за тридевять земель в поисках молодильных яблочек грозил выглядеть чистейшим фарсом. Поэтому-то я решил один поехать в Михнево, на дачу нашей знакомой, Аси, где в это время никто не живёт, и, пройдя по пути к ней через дремучий лес, где, как известно, обитает Серый волк, находиться там до тех пор, пока не исполнится моё Желание.
Бабушка слушала меня слишком внимательно, чтобы ответить сразу, она была достаточно благодарным слушателем, чтобы с полглотка и пол-укуса определить мою речь как имеющую консистенцию не жидкого супчика, но хорошо прожаренного бифштекса, переваривание которого – как выразился бы мой папа, писатель-неудачник с претензией на стиль, по маминым словам – способно выкрасть из субсидирующего нашу встречу хронохранилища изрядный ломоть концентрированной темпоральности. Словом, она не торопила своё решение, давая ему вызреть, и, как любой решительный и мудрый человек, заранее предвкушала неожиданность его рождения. Муха же некоторое время сидела невозмутимо, но потом медленно обернула к бабушкиному уху свой лилипутский хобот и утробно зажужжала.
– Да, действительно, – сухо поинтересовалась бабушка, полуповернувшись к мухе, а меня оглядывая искоса сквозь ледяной прищур напускного недовольства, – о каком это желании говоришь ты, так проборматывая упоминания о нём, словно я не один год просидела в библиотеке за изучением твоей подноготной?
Я стыдливо потупил глаза. От смущения я замолк будто в рот воды набравший. Я горестно и смятенно наморщил лоб, борясь с собой.
Так это должны были оценить приметливая бабушка и её прозорливейшая зверотень.
Я опустил глаза, неуверенный, что безжалостно-внимательная парочка не заметит в них внезапную искру торжества, оттого что беседе, опрометчиво устремившейся в прикрытую неряшливо скважинку умолчания, не останется ничего иного, кроме как заветвиться по услужливо выложенным прокрустовым желобкам искусственной дельты. Я замолк, чтобы дать торжеству остыть до того градуса, от которого безрассудство поспешности воспитывается в осмотрительную ловкость. Наконец, очи горе́ и омрачённое морщинами чело должны были убедить моих собеседниц не только в неслучайности моего потаённо-неумелого умолчания, и не только в обескураживающей растерянности правдивого мальчика, неопровержимым отсутствием какого-либо алиби припёртого скрупулёзными дознавателями к стенке – эта фаза с волнообразным циркулированием на моём лице несуществующих эмоций давала им время, чтобы почувствовать себя заинтригованными, а значит добровольно желающими двигаться в своих решениях вдоль тех вешек, которые загодя были заботливо расставлены мною.
– Ну-ну, молодой человек, – нетерпеливо сказала бабушка, – не нужно тянуть время в надежде на волшебников и фей, сваливающихся с неба. Авторитетно могу заявить, что, до тех, по крайней мере, пор, пока здесь нахожусь я, ничему подобному приключиться нет никаких шансов. Если уж ваша мама столь неозабочена вами, в детском-то саду вас должны были учить, что старшим следует отвечать правдиво и по существу?
– Да, – прошептал я, и в той нерешительности, с которой я взглянул на ведьму, наверняка был глянец невинности, терзающей саму себя: вытравленное торжество сделало мою скорбь лишь более медоточивой, что в данных обстоятельствах было скорее кстати. – Но… стоит ли?.. Это моё Желание слишком ребячливо, – невозможно было отказать себе в удовольствии щегольнуть этим нафталинным монстриком! – чтобы выдержать проверку вашей строгостью.
– Дитя мое, я не собираюсь карамельными речами создавать иллюзию доверительной беседы и терпеливо приободрять вас к выдаче малоценных тайн. Позволю себе напомнить лишь, что у вас вряд ли есть выбор.
– Вы правы, – ответил я, и, на счастье, эту банальность удалось столь ровно заштриховать пронзительно-трогательной, почти персидской в своей смиренной витиеватости печалью – вива тебе, виртуозный экспромт! – что не оставил на ней кляксы и мой слишком скоропалительный взрыв правдивости: – Вы знаете, я твёрдо верю, что после встречи с Серым волком, останусь ли я в живых или миру придётся коротать век без моей особы, лето начнется второй раз.
– Что? – спросила старушка, и я в своём трансе застенчивости не без удовольствия отметил рядом с её лицом округлившиеся от удивления фасеточные вежды.
– Я знаю, что, если мне суждено встретиться с Серым волком, завтра, как и два с половиной месяца назад, снова будет первое июня, – упрямо повторил я, теперь уже без боязни, строго глядя прямо в водянистые бабушкины глаза.
Она призадумалась, а потом вздрогнула. Её ледяные пальцы отпустили мою руку и поправили за ухо выбившуюся прядь.
– Сумасшедшее растет поколение, – сказала она как бы в пустоту, а на самом деле обращаясь известно к кому. – Сумасшедшее и непоследовательное, – и, высказав эту свою нелепую максиму, резюмировала: – Вот что, дитя моё. В каждом правиле могут быть свои исключения, так же как в любой достойной вещи есть строки, перешагивающие её жанр, – так вот, не надеясь, что моя метафора для тебя прозрачна (прозрачна, бабушка, как новое платье короля, как утро стрелецкой казни, как душонка загубленного тобой прощелыги!), хочу выразиться напрямик. Хотя вообще-то ни о каком везении речи здесь идти не может, но для экономии времени пусть будет использовано это слово. Поправка в плане твоих действий будет следующая. Час пути по дневному лесу – это недостойно имени подвига. Сменим сцену. Ты сейчас сойдёшь с поезда…
– Но ведь ещё две станции! – воскликнул я горестно, будто подстреленный ястреб, но никто не снизошел к горечи детского крика:
– Ты сейчас сойдешь с поезда, – с нажимом повторила бабушка, – и леском проберешься на эту свою дачу. Вечереющий лес – вот подходящие декорации для встречи с твоим визави.
Нельзя сказать, будто я обомлел и мне было нечем ответить на её извилистое повеление, но ведь я, слава Богу, уже взрослый индивидуум, годами кропотливого вчувствования обучившийся на глазок отмерять – и отмерять безошибочно, вдохновенно! – тот зыбкий предел, за которым одно мизерное передвижение градуса желания замораживает последовательный ракоход чужих уступок в лёд непримиримого, если только не яростного отказа. Поэтому я счёл за благо промолчать, исподволь, каким-то самым глубоким корешком своей души надеясь на то, что смиренное молчание подвигнет бабушку, растроганную моей покорностью, приспустить на тормозах излишне суровое решение. Увы, бессмысленно продолжал стучать прямо в уши мёртвый поезд, расхлябанный во всех своих суставах, бессмысленно продолжал одаривать массивным своим стуком весь человеческий материал, несомый им, как микрофлора, в железно-дерматиновой полости своего тела, пока не подвернулась справа, будто бы неожиданно, будто бы внезапно и случайно, плотно сомкнутая гряда бетонных плит, составляющая перрон, и лишь тогда он неторопливо сбавил ход, всё больше увязая в скудной земле, проседающей под гильотинами его колёс, пока, наконец, не застыл, усмирённый, как вкопанный. И вот в тот крошечный временной проём, отделяющий его движение от его же собственной неподвижной омертвелости, холодная рука безжалостно и брезгливо вытолкнула меня из этой передвижной берлоги в оскорбительно светлый, угрожающе-красивый мир. Несколько времени я приноравливал окоченевшее тельце к этому теплу и расправлял сжатые полутьмой зрачки навстречу летнему свету, а когда, наконец опомнившись, в смятении обернулся, то увидел тёмно-зелёный состав, сделавший уже своё первое, мучительно-трудное движение, и в удаляющемся дверном окне – кристаллически-строгое, скованное льдом лицо.
Лето, окутанное уже дымкой увядания, было щедро на благородное – ласкающее и участливое – тепло, которое реяло над землёй, как парус в немом кино, чьё замедленное колыхание под порывами невидимого ветра свидетельствует о его аристократическом презрении к случайностям атмосферной перистальтики, – но даже несмотря на это, мне было всё ещё холодно в своём пальтишке. Я уныло сел на лавочку, всё ещё ни о чём не думая, и с полной безучастностью принялся за изучение предлежащей местности: небо, облака, кусты спереди, платформа, лавочки, рельсы, рельсы, платформа, лавочки, кусты сзади. Нет, что-то невесело, а самое главное – скучно. Попробуем иначе: гравий, шпалы, рельсы, бегущие вправо, та же пара рельс, убегающая влево, верхушки жидких рощиц по обе стороны. Нет, не складывается. Не сцепливается одно с другим в ту величественную обязательность, в которой могущественный мир топит всех нас, жалких, несамостоятельных, вопиюще неразумных. Да больше того – не верю я, чтобы вся эта чепуха, столь покладисто исчерпываемая перечислительной интонацией, одолела меня, пусть маленького, но проворного, а не косного, пусть несмышлёного, но зрячего, способного видеть и назвать их, в то время как они, слепорождённые и немые, никогда не увидят и не назовут меня. Неправильно свинчена эта наша земля, халтурно и почти наобум, если даже такой малец, как я, видит всё её возмутительное несообразие. Пока я сидел, с другого конца платформы появились ещё какие-то люди, с тяпками и граблями, заботливо укрытыми тряпьём, с бутылками пива в руках, по-птичьи оживлённые и разговорчивые, мучимые приступами хохота и вдохновенной ругани. К этому времени я уже вполне согрелся, и в подошедший поезд шагнул совсем без дрожи, с тёплыми и отныне навеки сухими ладошками.





