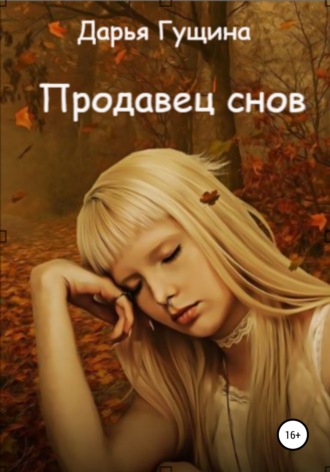
Дарья Гущина
Продавец снов
Я сжала руку в кулак, гася искры, и одним глотком выпила зелье. По телу разбежалось приятное тепло, расслабляя мышцы, закрывая глаза, отключая мозг, напевая колыбельную.
Колыбельную…
Но приснилась не мама. И не путешествие. И даже, надеюсь, не любовь. Ибо и здесь ненормальный Викешка не отстал. Белесые бельма вытаращились на меня из влажной тьмы, а каркающий голос как засипит:
– Проснись, дурёха! Проснись! Не спи! Нельзя тебе спать! Ты не умеешь! И сны тебе сниться, – глаза вдруг оказались близко-близко, – не должны. Проснись! Слышь? Вставай, говорю! Не спать!
И на этом окрике я подскочила, как ошпаренная. Дико колотилось сердце, в ушах шумела кровь… и звенел глухой рев «не спать!». И звенел явственно, почти не оставляя сомнений в том, что… Я досадливо поджала губы. Сон прошел, как ни бывало, и такая меня взяла обида и злость… Да я сейчас от него и горстки пепла не оставлю, будь он хоть трижды больным и пожилым!.. Мерзкий старый… хрен! Сволочь патлатая!
Из квартиры я выскочила в ярости, так хлопнув дверью, что задрожал пол, а с потолка посыпалась штукатурка. Спалю к черту, ох, спалю, и возьму грех на душу… и сделаю миру одолжение. Подъездную дверь я едва не вынесла. Вывалилась на улицу и сразу наткнулась на ненавистного деда. Он сидел на лавочке, скребя одной рукой у себя в бороде, второй – у кота за ухом, и натужно сопел.
Я кашлянула, замявшись и топчась на одном месте. Там, дома, поступок виделся… правильным. А теперь, в шаге от него, я струхнула, поостыла и опять пошла на поводу у воспитания.
– Что это значит? – зашипела на Викешку не хуже его кота, уперев руки в боки. – Зачем вы в мои сны лезете? Почему…
– Босиком-то не холодно, а, девица? – просипел он насмешливо, отпуская ворчащего кота.
Я глянула на свои ноги. Закатанные джинсы, босые ступни в ворохе осенних листьев. Приближалась ночь, пряча солнце и высасывая из мира скудное осеннее тепло, и, должно быть, асфальт холодный… В душе что-то неприятно сжалось – не то предчувствие, не то… Я зябко обхватила руками плечи – я ведь в одной майке! – и неожиданно не ощутила холода. Ветер срывал с берез жухлые листья, гонял их по двору, смешивая с пылью, но… Почему я не чувствую ни тепла, ни холода?.. Ведь недавно, гуляя в парке, я все ощущала!
Кажется, я сказала это вслух, тихо, с отчаянием.
– Нет, не ощущала, – дед смотрел на меня в упор, не мигая. – Ты просто еще не успела забыть, каково это – быть живой, – и неожиданно мягко, сочувственно спросил: – Так и не поняла, да, дурашка? А знаешь, кто никогда не спит и не видит снов? Мертвые. Ты так и не поняла, что теперь одна из них?
«Это неправда!», – истерично заорал внутренний голос, а я не смогла вымолвить ни слова. Ни единого. Горло сжали спазмы. Такие… живые и настоящие…
– Это фантомные ощущения, – Викешка кивнул, – фантомная боль души. Ты присаживайся, – он неожиданно пододвинулся, – в ногах-то правды нет. Садись, дурёшка. Не злая ты. И от живых питаться еще не начала. Ты прости. Что ругался. Знаешь, накатит порой… Боюсь я вас, мертвых, ох, боюсь, девка… Как ослеп лет пять назад, так и начал… видеть. И боюсь – жуть как, особенно этого, твоего, сверху который… Сильная душа, когда серчает – вспыхивает, ажно обжигает, ажно глазам больно… А вот ты – тихая, мягкая, теплая. Огнем светишься. Сгорела, да?
– Я не помню… – ответила одними губами. – Я… не верю…
И Егор – тоже?..
– А дай-ка руку, – Викешка сел боком и протянул мне сухую смуглую ладонь с узловатыми пальцами. – Дай. И скажи – какая она, моя рука?
– То есть? – переспросила я.
– Горячая или холодная? Сухая или влажная? Дрожащая или крепкая? Шершавая или гладкая? Мягкая или жесткая? А мозолей сколь, а?
Я зажмурилась, взяв его за руку, прислушалась к ощущениям. Можно и угадать. Горячая, сухая, дрожащая, шершавая, жесткая. Легко. И очень… больно. Внутри разрасталось жжение. Я вижу, слышу, но не чувствую. Ничего. Вообще. Мы так привыкаем ощущать мир тактильно – прикосновениями, кожей, – что перестаем обращать на это внимание. И не замечаем, когда теряем, когда от ощущений остается лишь рефлекс – фантом. Снег – значит, холодно. Упала – значит, должно быть больно. Должно быть…
– Эй-эй, ты чё, дурёшка? Дерево-то живое не трожь! Не трожь, говорю, ничё ж не выйдет!
Да, не вышло… Я снова изо всех сил пнула осину. Нет, таки вышло. Ни боли, ни… прочих ощущений. И на коже – ни ссадинки, ни царапинки. Я поймала сухой красный лист, сжала его в ладони, и он хрустнул, рассыпаясь трухой. И «Сайра», мною съеденная, и чай выпитый… Не всё клеится-то, а, Викешка? А может, врешь ты? Может, у зелья есть побочный эффект, о котором умолчал продавец? Потеря ощущений, провалы в памяти…
– Верить иль не верить – дело хозяйское, – дед ссутулился и почесался. – Да не резон мне врать, девка. Никакой не резон. Иди. Да, иди-иди, вон, в люди, к живым. Да поговорить попробуй. Увидят ли? Кто-то увидит. Недавно мертвые силы в душе хранят, с предметами работать могут, людям являться. А пройдет неделя-другая, и всё. Сорок дней покуда не истекли, есть силы – на дорогу, заметь, силы, чтоб уйти. А как срок выйдет… сил не будет, застрянешь. И пойдешь к живым силу пить. Убивать.
Я слушала, сжав кулаки. Да, надо к людям. Точно. Страшно, но…
– А зелья не пей, – добавил Викешка. – Душу он отнимает, продавец-то. Смекаешь? Отнимает и кон-сер-ви-ру-ет. Забирает себе. Слыхала, как они поют, видала свет? Живой свет живой души это, вот что.
– А вы откуда знаете? – я внимательно посмотрела на бомжеватого юродивого.
– А я ентот… как его бишь… – он выпятил впалую грудь. – Екстра… екстра…секс, во. Чую. Вижу. Слышу. Знаю. Вот и весь сказ. Хошь больше узнать – так поймай шельмеца да яйца ему выверни. Сила-то есть, а? Кто помирает не своей смертью, бывает, что часть – от такусенькую! – но получает и ворожить могёт. Вроде как извинение это. От того, что забрало.
Я раскрыла ладонь, и на ней заплясали рыжие искры, взметнулись к темному небу языки пламени.
– Ёпет… – дед отшатнулся, прикрыв слепые бельма. – Таки прав, сгорела девка, забрало пламя… Жаль. Хороша… была. Звать-то как? Пойду в церковь, попрошу за тебя – пущай отпоют да путь укажут, коли самой не уходится.
– Юстина.
– А по-русски? Крещеная как? Устинья?
– Да.
Говорят, что призраки не умеют лгать? Брехня. Не крещеная я, маме было не до того. Но дед поверил.
– И ладушки. И за тебя поставлю, и за этого, твоего, сверху который. Как его кличут? Егоркой? За неделю до тебя пришел, да. А бабка Катерина и не уходила. Некуда ей. А вы вернулись. Домой. Ладно, – Викешка тяжело встал и оправил телогрейку. – Пойду. Ведь только как сюда, – и ткнул грязным пальцем мне в лоб, – заглянул… Как торкнуло. Понимаешь? Торкнуло, что не питаться ты пришла, а домой вернулась. Прости старика. Не сразу я понял, что ты… просто не знаешь. Пойду, помолюсь за вас.
И вот тут-то я сообразила спросить:
– А вы-то… живой?
Дед хрипло хохотнул и, посмеиваясь и крякая, уковылял в наступающую ночь. А я осталась. Села на скамейку, вытянув ноги, пошевелила пальцами. Апатичная усталость навалилась неожиданно и грузно. Я угрюмо смотрела в темное небо на первые звезды и отчаянно пыталась осмыслить услышанное. И принять. И – вспомнить. Вспомнить нечто ускользающее, из-за чего случилось… то, что случилось. Если, конечно, дед не врал, и оно действительно случилось. Но это не укладывалось в голове, и понять, и принять… Невозможно.
От судорожного мозгового штурма отвлек гул далеких голосов. Кто-то шел прямиком к моему дому – или мимо него – и переговаривался. Я встала и прислушалась. Молодые голоса. Парни, человека три.
– Пипец зря тут пошли, – нервно твердил один. – Мать говорит, дурное место. Проклятое.
– Не боись, – беззаботно откликнулся второй. – Всего-то дурного – сумасшедший дед. Бросится на тебя – в зубы дашь, и всего делов.
– Да чё дед, привидения здесь! – возражал первый. – Мать месяц назад за вещами приходила – бабку видела. Ну, эту…







