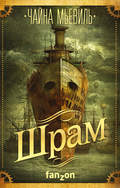Чайна Мьевиль
Рельсы
Глава 3
– Изумительно! – восклицал Воам, раздобыв Шэму работу на «Мидасе». – Просто изумительно! Ты больше не ребенок, тебе пора работать, а лучшая профессия на свете – это врач. и где еще можно узнать ее так глубоко и быстро, как не на кротобойном поезде, а?
«Что это за логика?» – хотелось закричать тогда Шэму, но разве он мог? Восторженный, волосатый, пузатый, как бочонок, Воам ин Суурап, скольки-то-юродный кузен Шэма по материнской линии и один из его опекунов, сам никогда на поезде не служил. Зато он был домоправителем у капитана. Тем не менее по какой-то ему одному ведомой причине докторов он уважал даже больше, чем кротобоев. Хотя что тут удивительного, ведь другой родич Шэма, а также, по совместительству, его второй воспитатель и опекун, – сутулый, дерганый, угловатый Трууз ин Верба – от них просто не вылезал. и врачи, надо отдать им должное, обычно не обижали горластого вреднючего старикашку.
Шэм был также способен отказаться от работы, добытой ему Воамом и Труузом, как втоптать их одежду в собачье дерьмо или в землю меж рельсов. Предложить взамен ему тоже было нечего, как он ни напрягал мозги. Сколько уж времени прошло после школы, а он все бездельничал. Впрочем, он и в школе, по большей части, делал то же самое.
Шэм был уверен, что на свете есть занятие, к которому у него лежит душа, для которого он создан. Тем более обидно было ему сознавать, что он не знает, в чем оно заключается. Учиться дальше он не хотел, не зная, к чему именно он способен; сдержанность в общении – возможно, результат не слишком выдающихся школьных успехов – помешала ему преуспеть в обслуживании и в торговле; для физической работы он был слишком молод и слаб; одним словом, Шэм многое перепробовал и всем остался недоволен. Воам и Трууз его не торопили, но тревожились.
– А может, – не раз начинал он, – в смысле, а что, если… – Но родичи с нехарактерным для них единодушием немедленно пресекали все его попытки развивать мысль в данном направлении.
– и не заикайся, – говорил Воам.
– Ни за что, – поддакивал Трууз. – Даже если бы ты нашел у кого поучиться – хотя где тут кого найдешь, это же Стреггей! – все равно это опасно, да и сомнительно. Разве ты не знаешь, сколько людей пробовали зарабатывать этим себе на жизнь и кончили без гроша в кармане? Для этого надо быть таким… – и он с нежностью оглядывал Шэма с головы до ног.
– А ты слишком того… – добавлял Воам.
«Чего того? – думал Шэм. Он хотел было разозлиться на Воама за его намеки, но ему только стало грустно. – Никчемный, что ли? В этом все дело?»
– …слишком ты славный парень, – заключил, наконец, Трууз и просиял от собственного вывода. – Ты просто слишком славный, чтобы идти в сальважиры.
и вот, желая подтолкнуть своего подопечного, выступить при нем в роли старой мудрой птицы, которая выпихивает из гнезда уже вполне созревшего для полета, но еще трусящего птенца, чтобы тот впервые расправил крылья и почувствовал ими ветер, Воам раздобыл для него работу на кротобое учеником и помощником доктора Фремло.
– Много пищи для ума, дружная команда и верное ремесло в придачу! – сказал тогда Воам. – К тому же уедешь со Стреггея! Поглядишь мир! – и Воам, просияв, послал воздушный поцелуй портрету шэмовых отца и матери. Тот вспыхивал трехсекундной выдержкой в рамке, гас, вспыхивал снова, и так без конца. – Тебе понравится!
До сих пор призвание Шэма не спешило проявить себя. Однако, когда наутро после бойни Шэм проснулся и, сказав первым делом «ай!», а потом «ой!», – все мышцы и даже кости его тела болели так, словно его всю ночь били палками; потом сполз с полки и на негнущихся ногах, поводя негнущимися руками, как рыцарь в заржавленных доспехах, вышел в коридор, где увидел солнечный свет, серый из-за пелены верховых облаков, и кружащих над поездом чаек, и своих товарищей, которые пилами и топорами вгрызались в истонченные кости кротурода, то, к своему удивлению, испытал прилив хорошего настроения, хотя и чувствовал себя почему-то самозванцем.
Большая добыча радовала всех на борту. Кок Драмин подавал кротятину на завтрак. Серый, тощий, больше похожий на труп умершего от голода человека, чем на повара, к тому же недолюбливавший Шэма, – в то утро он прямо-таки сиял, наполняя его миску бульоном.
Люди насвистывали, сворачивая в бухты канаты и смазывая маслом оборудование. На верхней палубе бросали кольца и играли в бэкгэммон, мастерски приноравливая свои движения к ритму поезда. Шэму тоже хотелось поиграть, он покрутился рядом, но отошел, со стыдом вспомнив последний матч со своим участием. Ему еще повезло, что команда, похоже, забыла и думать о его позоре, который при иных обстоятельствах наверняка должен был дать рождение постоянной кличке – Капитан Мусорное Ведро.
Он пошел смотреть на пингвинов. Снимал их на свою дешевую маленькую камеру. Эти симпатичные, слишком тяжелые для полета птицы населяли крошечные островки, где толкались и тыкали друг в друга клювами, живя, похоже, и в тесноте, и в обиде. Охотясь, они вниз головой бросались со своего утеса в землю между железнодорожными колеями, где, работая широким, точно лопата, клювом, мускулистыми лапами и крыльями, прорывали небольшой тоннель и выскакивали на поверхность, вознагражденные какой-нибудь мелкой извивающейся живностью. Но они, в свою очередь, тоже становились добычей клыкастых меркатов, барсуков, стай хищных бурундуков, – охотясь, те поднимали такой шум и визг, что у Шэма даже уши закладывало, особенно когда его товарищи пытались ловить этих тварей сетями.
«Мидас» шел не прямым курсом. Каждый фрагмент утиля, мимо которого их проводили стрелки, Шэм провожал задумчивым взглядом. Точно один из них – вот эта обмотанная проволокой ступица колеса, к примеру, или та заросшая пылью дверца от холодильника, а еще лучше вон тот предмет, похожий на грейпфрут с вырезанной долькой, выброшенный на берег и утонувший в прибрежной гальке – мог вдруг ожить и что-нибудь сделать. А что, и такое могло быть. Иногда и бывало. Он думал, что никто не замечает его интереса к этим вещам, но как-то увидел, что за ним наблюдают доктор и первый помощник. Когда Шэм залился краской, Мбенда захохотал; но Фремло не смеялся.
– Юноша. – Лицо доктора выразило терпение. – Так, значит, вот чего жаждет твоя душа? – и он показал рукой на очередную заброшенную древность, проплывавшую в пыли за окном.
Шэм лишь пожал плечами.
Поезд настиг группу звездоносых кротов ростом с человека. Двоих успели поймать сетями, остальные скрылись. Шэм подивился тому, что вид этих животных, их пронзительные вопли произвели на него куда более неприятное впечатление, чем убийство и последующая разделка огромного рычащего чудовища. Однако это было мясо и ценный мех. Шэм специально сходил к дизелю, посмотреть, полон ли трюм и скоро ли назад в порт.
Фремло давал ему новых кукол, которых Шэм должен был сначала потрошить, а затем снова наполнять внутренностями, чтобы узнать, из чего состоит тело. На жуткие результаты его операций доктор взирал в ужасе. Он раскладывал перед ним схемы, и Шэм делал вид, будто учится. Время от времени Фремло экзаменовал его на знание основ медицины, и Шэм неизменно показывал столь ничтожный результат, что доктор даже не злился, а испытывал к нему своеобразное почтение.
Шэм сидел на палубе, свесив ноги; внизу мелькала земля. Он ждал озарения. С самого начала рейса он понял, что с медициной ему не по пути. Поэтому он производил смотр увлечениям. Пробовал резьбу по раковинам, вел дневник, рисовал карикатуры. Делал попытки учить языки иностранных членов команды. Простаивал у карточного стола, приглядываясь к приемам записных игроков. Но ничто не увлекало его надолго.
Поезд ушел севернее, где мороз отпустил, и растения выглядели не такими замученными. Люди перестали петь и снова начали ругаться. Наиболее интенсивные перебранки нередко переходили в драки. Шэму не раз приходилось уносить ноги, чтобы не стать нечаянной жертвой разъяренных мужчин и женщин, которые по любому поводу кидались друг на друга с кулаками.
«Я знаю, что нам нужно, – думал Шэм, когда обозленные офицеры разгоняли зачинщиков мыть сортиры. Ему уже доводилось слышать паровозные байки о том, как выпускать пар, когда напряжение на борту становится невыносимым. – Нам нужен Р и Р». А ведь еще совсем недавно он знать не знал о том, что эти два Р значат. Быть может, измученным бездельем людям нужны были Ром и Рыба. А может, Ролики и Решетки. Или Размер и Рифма.
Как-то пасмурным днем под сумрачными облаками Шэм сидел на крыше в компании сменившихся с вахты паровозных, которые стравливали жуков. Натянув между поручнями веревки, они соорудили арену; по ней, громко топая, кружили два сердитых насекомых. Это были жуки-танки, тяжелые переливчатые твари размером с ладонь; одиночки по природе, они становились драчливыми, когда их лишали любезного их натуре уеди нения, а потому идеально подходили для жестокой забавы. Однако теперь жуки мешкали, явно не испытывая желания сражаться. Владельцы подбадривали их, тыча горячими металлическими прутами сзади в панцирь, пока те не ринулись друг на друга, грохоча, точно две разгневанные пластмассовые коробки.
Наблюдать за поведением жуков было интересно, но смотреть, как беспощадно подначивают их хозяева, было совсем не приятно. А рядом другие уже держали наготове клетку с роющей ящерицей, на чьей морде застыла тревожная усмешка, характерная для рептилий. Были еще меркат и шипастая роющая крыса. Так что жуки выступали только на разогреве.
Шэм покачал головой. Конечно, жукам тоже приходилось сейчас несладко, и желания драться у них было не больше, чем у крысы или скального кролика, но, сколько бы Шэм ни раздражался из-за того, что млекопитающие вызывают у него больше жалости, чем рептилии и насекомые, поделать с односторонностью своего сочувствия ничего не мог. Он попятился – и врезался спиной в Яшкана Ворли. Шарахнувшись от него, он толкнул другого зрителя; вокруг недовольно заворчали.
– Куда это ты? – крикнул ему вслед Яшкан. – Смотреть кишка тонка?
«Нет, – подумал Шэм. – Просто нет настроения».
– А ну, иди сюда, ты, трус сопливый! – продолжал кричать Яшкан, и его крики подхватили Вальтис Линд и пара других любителей походя сделать кому-нибудь больно. Вслед Шэму полетели оскорбительные прозвища, неприятно напомнившие ему о школе. Он залился краской.
– Они пошутили, Шэм! – крикнул Вуринам. – Нечего дуться! Возвращайся.
Но Шэм ушел, размышляя о выслушанных только что оскорблениях, о жуках, бессмысленно калечащих друг друга в драке, и о других зверьках, безнадежно ожидающих своей очереди.
Они повстречали другого кротобоя; дизельный, как «Мидас», тот шел под флагами Роквейна. Команды приветственно махали друг другу.
– Куда этим охотиться на кротурода; разве только какой-нибудь зверюге жить надоест, и она сама напорется на их гарпун, – цедили на «Мидасе» сквозь зубы, прикрывая злословие улыбкой. Изобретательные поношения южного соседа еще долго служили развлечением команде.
Рельсы здесь были проложены так, что исключали тесное общение, в том числе обмен письмами и информацией. Поэтому Шэм с удивлением наблюдал за тем, как Гансифер Браунолл, угрюмая, татуированная с головы до ног вторая помощница капитана разворачивала охотничьего воздушного змея вроде тех, каких умели запускать на Кларионе, ее далекой и суровой родине.
«Что это она делает?» – думал он. Капитан прикрепила к змею письмо. Змей взмыл в воздух, как живой вырвавшись из рук Браунолл, и замер под клубящимися тучами верхнего слоя атмосферы. Повисев там, он кивнул раз, другой, третий и камнем упал на палубу роквейнца.
Через пару минут на мачте поднялся узкий треугольный флажок. Шэм долго глядел вслед удалявшемуся поезду. Он еще не в совершенстве постиг язык флагов, но этот сигнал был ему знаком. Капитан получила такой ответ: «Извините, нет».
Глава 4
Стоял холод, хотя и не столь беспощадный, как в Арктике. Шэм наблюдал за бурной жизнью обитателей подземного мира. В земле копошились крупные голые черви. Жуки величиной с ладонь. В корнях деревьев и останках ржавого железа и стеклянного утиля проживали лисы и бандикуты. Спускался туман, постепенно скрывая рельсы.
– Суурап, – сказал Вуринам. Паровозный боцман был сосредоточен, он примерял новую шляпу. Для него новую. Спрятав под нее свои черные волосы, Вуринам то сдвигал ее на затылок, то, наоборот, нахлобучивал на самые глаза, поворачиваясь то лицом, то спиной к ветру.
– Ты что, не слышал, как я тебе кричал? – спросил он. – Или не хотел посмотреть?
– Хотел, – сказал Шэм. – Только иногда этого мало.
– Трудновато тебе придется на этой работе, – продолжал Вуринам. – Раз тебя даже потасовка со зверями так огорчает.
– Работа и это – разные вещи, – отвечал Шэм. – Совсем разные. Во-первых, на крота охотятся не смеха ради. А во-вторых, он ведь тоже может нас убить.
– Не исключено, – согласился Вуринам. – Значит, все дело в размере? Если бы, скажем, Яшкан дрался с парой кротовых крыс или другой тварью своего размера, то ты бы не возражал?
– Я сам бы на него поставил, – буркнул Шэм.
– В следующий раз держись, – посоветовал Хоб.
– Вуринам. – Шэм заставил себя продолжить. – Что капитан спросила тогда у «Багшафта»? и почему, когда мы ловили большого крота, она спрашивала про цвет?
– А, – Вуринам оставил в покое поля шляпы и повернулся к Шэму. – Вон ты о чем.
Шэм продолжал:
– Это как-то связано с ее философией, да?
– А ты что об этом знаешь? – спросил Хоб Вуринам, подумав.
– Ничего, – промямлил Шэм. – Просто мне показалось, что она как будто что-то ищет. Это что-то определенного цвета. Оно ей нужно. Вот она у всех и спрашивает. А какого оно цвета?
– Кольцо ты кидаешь плохо, – сказал Вуринам. Посмотрел на воронье гнездо, снова на Шэма. – Лазать не умеешь. – Шэм переступил с ноги на ногу, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом Вуринама. – При виде древнего барахла впадаешь в задумчивость. Доктор из тебя никакой. Но с цветом ты попал в самую точку, Шэм Суурап.
и Вуринам подался к Шэму.
– Она зовет его цветом слоновой кости, – сказал он тихо. – Иногда просто цветом кости. А раз я слышал, как она сказала «цветом как зуб». Готов спорить на что угодно, она бы его так ни за что не назвала, но я скажу о нем просто: «желтый». – и он выпрямился. – Ее философия, – закончил он навстречу ветру, – желтая.
– Ты его видел?
– Не его – флатографию. – и он сложил ладонь ковшиком, показывая горб. – Здоровый, – сказал он. – Здоровый, как… как я не знаю что. – и шепотом добавил: – Здоровый и желтый.
Философия. Настала Шэму пора задуматься, не ее ли не хватает в его жизни, не стоит ли ему завести себе философию и пуститься в погоню за ней, невзирая ни на какие преграды. Но чем больше он узнавал о кротобойных поездах, тем большую тошноту вызывали в нем разные философии. Своего рода нервную дрожь. «Так я и знал», – подумал он.
Шэму редко хотелось по ночам чего-нибудь, кроме сна. Но тот разговор так взволновал его, что он просто не мог отдаться тусклому забытью. Он не лежал, а сидел, насколько позволяла низкая полка. Слушал, как фыркает за бортом ветер и скрипит металлическая обшивка поезда. Думал о своем. Наконец он встал.
Дрожа от холода, тихонько пробрался меж спящими. Что не так просто в тесном купе, забитом всякой всячиной. На каждом шагу под ноги норовила подвернуться то свернутая веревка, то коврик, то гремучая железяка, то что-нибудь из безделушек, которыми сентиментальные кротобои украшали свое временное жилье, стараясь придать ему уюта. С низкого потолка свисало тоже много такого, обо что можно было треснуться головой. Но дни, проведенные в поезде, не прошли для него даром. Жизнь на колесах изменила его, добавила ему ловкости.
Лестница наверх. Ночная смена уже перешла на другую палубу, но Шэм все равно не высовывался, не желая попадаться им на глаза. Поезд уходил все дальше в холодную глубину рельсового моря, темного, если не считать череды подвесных огней, возле которых кружились маленькие крылатые поклонники, у каждого свои. Блестящими полосами убегали вдаль рельсы, отражая свет, между шпалами метались тени. Звезд Шэм не видел.
Ему захотелось пройти вдоль всего поезда до веревочной лестницы и подняться по ней наверх, в гнездо. Потом ему захотелось показать спящему Вуринаму неприличный жест и вскарабкаться на продуваемую всеми ветрами платформу, где в обнимку с двухсекционным обогревателем коротал ночь вахтенный бедолага, глядя на невидимый во тьме горизонт.
Только безумный капитан станет вести охоту ночью, в темноте перегоняя состав с пути на путь. Впередсмотрящему было приказано искать огни – это могли быть другие кротобои, в худшем случае пираты, или, скорее всего, действующий утиль. Вот именно это, сказал себе Шэм, ему и хотелось увидать.
Не просто – хотя что тут такого простого? – заметить призрачные изгибы балочных ферм в коросте цемента, или разбитый черный купол, или мусор, или железобетонно-стеклянные артефакты с обрывками проводки, тут и там торчавшие из рельсоморья. Нет, найти действующий утиль, подвижный, оживляемый таинственной, неведомо откуда берущейся энергией. Звучащий, светящийся, послушный давно забытым планам. Вот какая была у него мечта, не чета глупой капитанской философии.
Шэм взглянул на болтавшуюся перед ним веревочную лестницу. Ругнулся. Как будто снаружи было не холодно, а ему не страшно. Ну и что, если он выйдет сейчас наверх и что-нибудь увидит? Капитан Напхи сделает еще пометку на карте и сообщит другим. А «Мидас» пойдет дальше, охотиться на кротов.
«Лучше я ничего не буду находить», – подумал Шэм и надулся как ребенок. Прокравшись тем же путем к холодной полке, он лег, запретив себе стыдиться.
На следующий день, когда с высоты раздался крик впередсмотрящего, сердце Шэма подпрыгнуло, но это оказался не крот и даже не совсем утиль. Это было нечто, о чем он и помыслить не мог.
Глава 5
Мир неба состоит из двух слоев, а мир земли – из четырех. Это ни для кого не секрет. Об этом знал Шэм, знает эта книга, знаете теперь и вы.
Сначала идет нижнее небо, оно простирается над рельсоморьем на две-три мили с хвостиком. Примерно на такой высоте воздух внезапно приобретает цвет грязи, а небо застилают – обычно застилают – лохматые токсичные облака. Это граница верхнего неба, где охотятся чудовища, жадные космические летуны. Счастье, что есть туман, скрывающий их от людских глаз; но стоит облакам чуть-чуть рассеяться, и чужеродные твари предстают во всей красе, заставляя наблюдателей вздрагивать от ужаса. Правда, бывает еще, что во время побоищ, которые они устраивают наверху между собой, кому-нибудь отгрызут крыло или ногу, и тогда она свалится вниз и прибьет зазевавшуюся птицу, залетевшую выше, чем подсказывает благоразумие.
Но мы хотели говорить не об этом. Мы ведем речь о мире, который состоит из четырех слоев.
Во-первых, слой подземелья, где копают свои ходы землеройные животные, где есть пещеры, корни деревьев, залежи еще более древнего утиля и, может быть, стальные рельсы и деревянные шпалы давно забытого или никогда не виданного моря рельсов.
Настоящее рельсоморье опирается на плоскость; это и есть второй слой. Колеи, соединяющие времена и страны, проложены во всех направлениях, куда ни глянь. Они уходят в вечность.
Земли, страны и континенты – слой номер три. Они выше уровня рельсов. Они покоятся на нормальной почве, то есть на основании из камня или такой плотной земли, что обитатели первого уровня не в силах прогрызть ее своими клыками и когтями. Поэтому там живут люди. Таковы бесчисленные архипелаги, уединенные острова и таинственные континенты, обиталища загадочных народов.
А надо всем этим, там, где пики самых высоких гор пронзают мили пригодного для дыхания нижнего воздушного слоя и, прорывая границу двух небес, уходят наверх, лежат бугристые, липкие от грязи нагорья. Там, в обители ядовитых испарений, за пеленой нечистого тумана ползают, снуют и ковыляют бесчисленные кузены и кузины верхненебесных летунов, дышащие отравой хищники, парвеню животного мира.
Из четырех описанных уровней для обитания человека пригодны два с половиной. На суше, то есть на внутренних частях островов, далеких от рельсов и шпал и дикой грязи рельсоморья, цветут сады и колышутся в лугах травы. Там есть озера и быстрые ручьи. Хорошие пахотные земли, на которых растут злаки. Там фермятся фермы и городятся города. Именно там, на земле, проживает большая часть человечества. Не зная ни тревог, ни поездов.
Их обрамляют другие регионы, близкие к морю. Называемые литторальными. В них есть портовые города, откуда выходят транспорты, товарные и охотничьи поезда. Маяки освещают им путь, проводя мимо громоздящихся повсюду рифов из отбросов. «По мне либо суша, либо рельсы, – говорят и рельсоходы, и сухопуты, – лишь бы не литторальная половинчатость». Рельсоходы особенно любят изречения подобного рода. У них на любой случай найдется если не правило, так поговорка. Например: «От плетей да от пути не зарекайся».