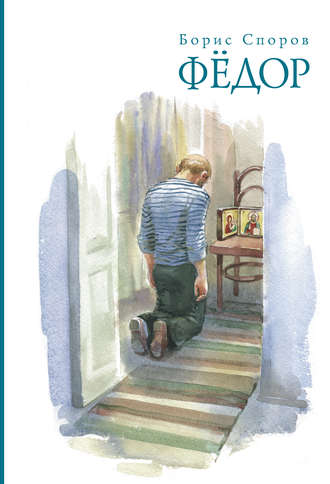
Борис Споров
Федор (сборник)
Что-то и еще тревожило Веру, но понять она не могла – что? В груди тлела неприметная дрожь, а отчего это – тоже не знала. «Какая бессмысленная суета. И зачем – все зачем? – думала она нестройно и вяло. – Вокруг страхи такие – и как будто не замечаем ничего. Живет в железной осаде Братовщина – и хоть бы возмутились…»
5
– До переворота в 1917 году я еще жил надеждой учиться в Духовной семинарии, – проснувшись, как ни в чем не бывало, продолжил дедушка. – Ты слушаешь ли меня?.. Слушаешь. И хорошо… Но уже в марте я понял, что пришло то время, о котором предупреждал тятенька. Теперь, думаю, никаких семинарий – началось. Я уже взрослый к тому времени был – семнадцать лет, гляди, не сегодня-завтра убивать позовут. В Братовщине заметно мужики поредели. Война и есть война… Ты, Вера, подогрей молочка, что-то дышится тяжело… А ты что все молчишь?
– Тебя слушаю, дедушка, вот и молчу.
– И голос с чего-то сел, или закручинилась?.. Ну, дело, молодое: солнышко взойдет – и девица улыбнется.
Вера молчала.
– После марта, как царь от короны отрекся, и Братовщина зашевелилась – и все вдруг начали делить барскую землю. Страшное, дьявольское искушение… Тогда же схоронили отца диакона, совсем старенький был. После этого батюшка как-то зазвал меня к себе и говорит: «Думал я, чадо, что ты и сменишь отца диакона, а потом и меня, но не так – сбываются страшные пророчества протоиерея отца Иоанна Кронштадтского: царя уже свергли – иго иудейское надвинулось. Впереди грабежи и гражданская война. Старайся не участвовать в войне… А вот с сентября будешь в школе детей учить…» О многом еще дельно батюшка говорил… Вот и попьем молочка. – Петр Николаевич ойкнул, но перевалился на бок и даже сел самостоятельно на грядку кровати. – А который теперь час, деточка? – спросил он.
– Час ночи, – ответила Вера.
– Вот как, а я полагал вечер…
Петр Николаевич моргал незрячими глазами – и весь он был такой невозвратно отживший, что Вере до слез стало жаль родного дедушку. Она быстро подошла к нему и обняла за голову, и гладила его по-детски мягкие седые волосы и беззвучно плакала над ним. А он точно окаменел – не шелохнулся, не охнул, оставаясь неподвижным.
Лишь на рассвете они оба уснули. А когда, спустя несколько часов, поднялись, умылись и коленопреклоненно помолились, благословив и поцеловав внучку, Петр Николаевич сказал:
– Поезжай, Вера, к отцу Михаилу, скажи, что дедушку пора соборовать и причастить, сегодня-завтра. Он меня знает, поймет. А если решит сразу, вдруг, возьми легковушку и привози батюшку. Деньги в комоде.
Сели завтракать, но аппетита у обоих не было. И Вера радовалась, что ей надо в районный центр, в единственный действующий храм…
Благословив, отец Михаил выслушал Веру и затем, перекрестившись, сказал:
– Петр Николаевич человек мудрый, скажи ему: пусть ждет – завтра после ранней буду.
Когда Вера возвратилась в Братовщину, то застала дома гостей – трех старух-односельчанок. Все они выстроились перед киотом, вычитывали правило перед причастием и молились. Не каждый день батюшка в Братовщине бывает – заодно и приобщиться. Петр Николаевич не предупредил отца Михаила о такой прибавке, но полагал, что отец Михаил – батюшка мудрый, он и без наказа все предусмотрит.
– Будет ли? – дедушка придерживал себя за бороду.
– Будет, после ранней – велел ждать.
– Обязательно дождусь! – весело отозвался Петр Николаевич, как и отец Михаил разумея совсем иное под словом «дождаться». – Ты нас чайком побалуй, а мы пока еще помолимся, а то когда еще соберемся…
И читали размеренно, и молились, как не молились, может быть, уже давно. А после чашки чая старушки слезно раскланялись и ушли восвояси, заранее счастливые.
6
– Так вот и направляли и учили меня добрые люди. Господи, знать, по Твоему слову… Как ведь все это помогло; а во время коллективизации что делалось – уголовщина и мародерство… Вот и дружок мой, Егор Серов, дедушка Федин, уже в восемнадцатом удила было закусил: «Даешь землюб арскую!
Наша власть!» Топор в руки – и пошел колышки вбивать. А уж какая земля, когда все умышленно гробят, когда шкуру с живых дерут, – такие холуи в кожанках рыскали – волчьё! Продналоги, продразверстки, землю дали, землю взяли – и все под корень, под корень рубят…
Так вот и батюшку нашего – ворвались с обыском. Он говорит: скажите, что ищете, и если у меня есть это – я отдам вам. В ответ рычат и за оружие хватаются… Прибежали за мной: прихожу, а ему уже и руки за спину заломили. – Остановитесь! – говорю. – Я здешний учитель и уполномоченный от крестьян. Какие претензии к священнику? – а сам к столу сажусь, чтобы записать.
– Ты что, учитель, это же контра поповская, мы его под трибунал уведем.
– Вы, может, и уведете, – говорю, – если у вас на это ордер выписан… А пока не смейте заламывать руки и не оскорбляйте человека. Разберемся, в чем дело. А, прежде всего, предъявите ордер на обыск и арест.
Смотрю, а у них лица почернели. Ну, думаю, конец нам обоим. Терять нечего. Как я закричу:
– Предъявить ордер!..
А они в дверь – и на возок.
– Ну, контра, в другой раз обоих в расход пустим!..
Так ведь и расстреляли батюшку года два спустя. Вернее, увезли – и сгинул батюшка…
– А ты, дедушка, все это записывал в тетради или заживо рассказываешь? – Вера сидела у стола, перебирала рис. – Это ведь теперь только ты и помнишь.
И впервые, наверно, Петр Николаевич не нашелся, что ответить: он подвигал плечами, покрутил головой и даже почесал в затылке:
– Ну, дочка, ум у старика вышибло – не помню. Должен бы в десяти словах… должен бы. – Он помолчал, пожевал губами, шаря рукой по столу, как будто собирая крошки. – А знаешь, Веруша, как я мучительно долго не мог понять, зачем такая жизнь – все происходящее зачем? Понимаю: вечность, Господь, а вот зачем дорога – не мог понять.
– А теперь что – понял? – Вера так и вскинула напряженный взгляд. И в то же время ссыпала, ссыпала механически в блюдо неразобранный рис. Губы ее не то шептали что-то, не то вздрагивали, и она, видимо, вдруг поняла свое волнение – засмеялась и заговорила громко и беспечно: – Паренек, паренек, ты зачем родился? – Чтобы жить. – Паренек, паренек, ты зачем живешь? – Чтобы жить. – Паренек, паренек, ты зачем умрешь? – Чтобы жить. – А ты кто, паренек? – Пенек…
– Слыхал, слыхали я эту байку. Только и в ней не все глупо… Сил нет высказать мысль… Э-эх, – горькая усмешка исказила его лицо. – Нам с тобой эти тетради с первой до последней прочесть бы надо. Ты моя наследница – тебе и продолжать.
– Да что продолжать-то, дедушка?! – с очевидной досадой, ломая голос, воскликнула Вера.
– Как что?.. Не понимаешь?.. Повсюду должен быть хоть один человек, который знает, что он хочет и зачем на своем месте. Человек этот и сдерживает зло. Ведь Братовщина юридически на чужой земле. Ведомственная земля, потому и в церкви склад устроили, и деревья поспилили и кладбище закрыли. Они вправе Братовщину и вовсе снести. Да только близок локоток, а не укусишь… Но как только молитва иссякнет в Братовщине, так и Братовщина в тартарары рухнет… И вся жизнь в этом. Потому и было завещано не уходить… – Подумал, повздыхал и добавил: – И не уйду – с твоей помощью. И ты нигде не разрешай хоронить меня – только здесь. Попроси Федю яму выкопать, он решительный… За Божию правду бороться надо, это наш крест – вот и понесем его вслед за Господом. А иначе и зачем все это?!
От обеда Петр Николаевич отказался, объяснив, что будет поститься. И пока Вера обедала одна, он тихо рассказывал ей о том, как в Братовщине проводили коллективизацию, как уводили со двора коров, лошадей и даже мелкую живность, лишая людей личного хозяйства и переводя на трудодни.
– И верно, какие рабовладельцы, если хлеб не в их руках… А Егор Серов – мужик хваткий да работящий: вот и окреп за счет своего труда. А уж горячий – порох! Прибежал ко мне – глаза как плошки:
– Петруха, друже! Что творят, сволочи! Не отдам коней – перестреляю!
– Кого? – спрашиваю.
– А всех подряд!..
– Поздно, Егор. Это надо было в1917 году, да и то не помогло бы… Мой, друже, тебе совет: отдай все, что требуют. Я все отдал – нет у меня ничего: крыша над головой да жена с сыном.
Молчал, молчал и наконец прохрипел:
– Ну уж нет: или пополам, или вдребезги…
А дома его ждали с описью. Он их и вытурил взашей. Председатель комиссии, жидок какой-то, возьми да и плюнь в Егора. А Егор в ответ и опустил свою «солоницу» ему на темечко – как косой подрезало.
Жена все отдала – вот это наверно и спасло семью. А Егора увели. Только в сороковом году возвратился: не узнать – что с человеком сделали… А в 1941-м мы в один день мобилизованы были.
– Эх, Петро, – шептал не раз Егор, – об одном сожалею, землей купили: колья не в землю надо было забивать, а в могилы, а уж кому – не скажу, но знаю…
В том же сорок первом я и похоронил его своими руками в братской могиле под Вязьмой.
7
Уже два дня дедушка умирал, и Вера успела привыкнуть к этому, потому что была без опыта и не верила в такую смерть. Понятно, занемог дедушка, но для смерти пока срок не вышел.
Вечером вновь лязгом и грохотом опоясало Братовщину. Петр Николаевич придвинул к иконам стул, чтобы можно было передохнуть, и начал петь вечернюю службу. Голос его был слаб и напоминал детские приглушенные слезы. А Вера поставила тесто на пирог и решила прогуляться.
Смеркалось, но видно было далеко – во все стороны. Безлюдные дома, хотя и без огней, заброшенными не выглядели: не перекошенные, и крыши под крепким шифером с телеантеннами. Здесь нет колхоза, здесь просто жилые дома, приписанные к поселку, здесь все работоспособные на производстве – в поселке и в районном центре или в Москве. До железнодорожной платформы «Крутово» и всего-то двадцать пять минут ходьбы, поэтому и удобно – при каждом доме в Братовщине по двадцать соток земли.
Вера с крыльца повернула в дальний конец Братовщины… Сельские порядки разрежены. Напротив, плечом к плечу, три дома, а дальше – пустырь шагов в пятьдесят. От дедова дома до поворота к церкви пустырь, а за поворотом шесть дворов один к одному. И дальше все так же, и в обратную сторону – не лучше… В огородах возле дворов по три-четыре теплицы под пленкой. Да с телеантенн перекликаются вороны.
Шла Вера бесцельно и медленно, опустив руки в карманы плаща и как-то даже не сознавая, о чем думает… Вот здесь дедушка спешил, чтобы спасти от безбожников батюшку. А здесь была школа, а там медпункт и магазин… И рябило, рябило в глазах, и что-то отзывалось болью в сознании, и вздрагивали ресницы… Господи, да это же состав! Как привязанный к Братовщине, состав раскручивался и раскручивался, лязгая сцеплениями, колесами, гремя пустыми вагонами. Точно колонна танков в нескончаемом грохоте свирепствовала вокруг оглушенных домишек. А когда стемнеет, когда электровоз включит слепящую свою фару, а угли пантографов* начнут искрить, состав представится бронированным драконом, решившим наконец расправиться с упрямым селом. Не раз уже давило и людей, и скот. И некуда спрятаться от света и грохота…
Дошла до крайнего дома – и никого не встретила. Справа, в размашистой низинке, небольшая свалка. Когда-то, говорил дедушка, здесь был второй пруд: первый барский, а этот – общий. Четвертая часть от села, и былая пашня вокруг – пустырь. За железным кольцом с севера и запада ласкалось лиственное редколесье… И как же это могло случиться, что такое большое село стало беспомощным и вымирающим? Или для полигона не нашлось необжитого места? Да что там! Почему в храме, где еще и роспись сохранилась, устроили склад железнодорожного хлама… Они победили, но не своими руками – нашими…
– Верушка Смолина, не меня ли чаешь?.. Помстилось, не батюшка ли приехал. – Старуха стояла на крылечке, вокруг ног ее кругами ходила кошка…
Уже издалека, в противоположном конце улицы, она увидела Серого. Шел он неудержимо и решительно, как обычно и ходят молодые тяжеловозы. Похоже, что и он заметил Веру – и поубавил шаг. Так они и надвигались неотвратимо друг на друга. Уже можно было рассмотреть его лицо, когда Вера резко повернула направо в сторону церкви и кладбища. Ей показалось, что ее окликнули, но зов этот сгинул в грохоте и лязге вагонов.
Дедушка все еще стоял на молитве. Но лишь стукнула дверь, он оглянулся и тихо, с тоской в голосе, сказал:
– Верочка, вычитай мне молитвы ко причастию… что-то я не вижу.
– Сейчас, дедушка… Ты ляжешь или как?
– Нет, посижу, – он не тотчас сел, но прежде ощупал рукой сидение стула.
Вера включила верхний свет, взяла со стола молитвослов и подошла к деду. Прежде чем читать, она склонилась к его лицу – он сидел с открытыми глазами. Вера быстро провела рукой перед лицом, но дедушка даже глазом не моргнул – никакой помехи. Она распрямилась и спросила:
– Тебе с молитв?
– И Канон тоже…
«Грядите, людие, поим песнь Христу Богу, раздельшему море…»– начала Вера, а Петр Николаевич перекрестился, тщетно попытавшись подняться.
Вера читала легко и без ошибок, и радовалось сердце дедово – это ведь он выучил ее духовному чтению.
8
Усталость или немощность была такая, что и в постели Петр Николаевич не мог мысленно читать даже Иисусову молитву. Он ежеминутно проваливался в беспамятство, полагая, что так засыпает. Прошел час, два и только тогда его дыхание восстановилось, и он естественно вошел в круговую бесконечность: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго…»
А Вера за столом все думала, но не могла понять, когда же он ослеп… Затем она открыла прадедову тетрадь и продолжила чтение… А затем – поднялось тесто, и она взялась за начинку – завтра придет батюшка, который и ее окормляет с первых шагов и которого она любит…
Дома была мать, но не было веры. И только здесь, у дедушки, она чувствовала себя легко, потому что знала, что в сердце ее Бог. Ей с детства было радостно жить, сознавая, что она с Богом, что она Божий сосуд. Она и жила без думы о завтрашнем дне: придет день – и Господь укажет. Главное не здесь, главное – там… И вновь она вспоминала своих одноклассников-выпускников. Почему-то именно в то время особенно много говорили о смерти и смысле человеческого существования. И она видела, как искажались и темнели лица тех, кто жил без веры, для которых за гробом нет ничего, кроме праха. И лишь некоторые оставались холодны и надменны – иноверцы или атеисты не в первом поколении. Вера, по совету дедушки, не раскрывалась перед одноклассниками, но жить ей было легко и радостно… А все дедушка.
После часа ночи Вера смазала пирог и накрыла его чистым полотенцем.
9
Рано утром притопали старушки, все вместе, в один заход.
Встали помолиться и прочесть Акафист. Управились за час. Кто где разместились отдыхать, а Вера пошла встречать батюшку на тот случай, если машины не будет. В мире было тихо, как обычно бывает после грохочущей ночи.
Перешептываясь, старушки начали уже беспокоиться, когда под окнами остановились «Жигули». Из салона выбрались батюшка в плаще и глубокой шляпе и Вера. Следом шофер понес увесистый саквояж с двумя ручками. Стукнула входная дверь.
– Вот и слава Богу, – едва слышно сказал Петр Николаевич, глотая слезы.
Старушки в передней так и ткнулись под благословение, испитыми губами припадая к руке священника.
Вера прошла в горницу, чтобы помочь дедушке подняться.
Отец Михаил сосредоточенно и молча начал облачаться. Старушки только глазами хлопали и робели. В считаные минуты человек преобразился. Перед ними уже возвышался с наперсным крестом и Евангелием в руке грозный пастырь, настоятель храма. Он сам поцеловал крест, еще раз благословил прихожанок.
– А как отец Петр? – отводя рукой занавеску на двери, приветствовал отец Михаил.
– Слава Богу, отец Михаил, умираю, – и улыбка озарила лицо старика.
– Дождался…
– Как же, дождался.
Одной рукой Петр Николаевич оперся о стол, второй – о спинку стула, и как трепетная трость поднялся навстречу священнику. По иерейскому чину они приветствовали друг друга. И целовал старик святое облачение священника, и слезы катились из его незрячих глаз.
Блюдо с рисом, свечи, масло, палочки с накрученной ватой на концах, листочки бумаги и спички – все, что необходимо для соборования. И мысленно оценив все это, отец Михаил с особой любовью благословил Веру и отечески поцеловал ее в голову.
– Давайте помолимся, да и начнем с исповеди, – предложил отец Михаил и негромко возгласил: – Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа…
Около часа длилась исповедь Петра Николаевича. Слов не было слышно, но слышно было – дедушка плачет… На исповедь старушек было затрачено десять минут на всех. Исповедалась и Вера, хотя причащаться она не намеревалась.
Батюшка поставил в блюдо с рисом свечи, налил масла в стопочку, положил на тумбочку под руку Евангелие и крест; Вера раздула угольки в кадиле, раздала всем свечи; наконец батюшка расставил всех по известному только ему порядку; Вера переписала имена всех в установленном порядке – и в какую-то минуту тишины начался чин соборования…
В три часа пополудни отец Михаил причастил своих чад, поздравил с принятием Таинств.
Пора было и позавтракать.
И казалось, что свершилось чудо: дедушка поел, похвалил пирог, попил теплого молока; трогательно простился с отцом Михаилом и проводил его до крыльца; и как будто с минуты на минуту силы его наращивались. И голос зазвучал окрепше, когда он вдруг на ходу запел:
– Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое…
Вера смеялась радостно, и слезы катились из ее глаз.
Прочли благодарственные молитвы и легли отдыхать. Лежали молча, всяк думал о своем:
«Ну вот и хорошо, теперь уже все сделано. Еще со своими проститься надо. Тогда уж и все… Сказать, чтобы прочитала вслух. Там ведь и Езопова языка много…»
«Что он ослеп – на сто процентов. Но как он слепой управлялся?.. И почему это батюшка сказал: "Отец Петр"?.. Какой же он отец? Не пустословит же батюшка. Спросить или не спрашивать?.. Если надо, сам скажет…»
10
Уже и тетрадь раскрыта, и дедушка, укутав плечи платком, подсел к столу и устремил взгляд в неопределенность, когда Вера неожиданно сказала:
– Записи твои я и сама прочту, ты мне рассказал бы о том, чего не записывал. Наверно ведь не записал, как и почему тебя отстранили от учительства и как ты вновь стал учителем?
Петр Николаевич потряхивал головой и улыбался рассеянно.
– Так, так, внучка, дело говоришь… Вот если бы я помнил, что там понаписано, тогда бы уж наверно… В иной год ведь ни слова не записывал, в иной – две-три страницы… А по учительству, может быть, и записано. Я ведь, Верушка, не личный дневник вел, а общественный, дневник села. По школе все записывал: сколько детей, какие классы какой наполняемости, потому что это показатель рождаемости. Сколько больных детей в селе… А вот теперь лежал и думал: откроют церковь да станут отстраивать, а какая была ограда – и не знают. А я в тетради все и записал: сколько рядов кирпича поверх земли было в основании, какие столбы из кирпича и какие звенья. Кованое звено нарисовал и ворота – все увезли при
Никите сумасшедшем, на свалку. Ковать-то теперь никто не станет…
– А ты что, думаешь, что церкви открывать начнут да ремонтировать? Ой, ли!
– К тому идет. Они уже пары выпустили, менять машину станут. Назад поедут… Ты и доживешь.
– Не знаю, не знаю…
– Только вовремя успеть зарегистрировать общину… православного государства, факт, не будет, а все равно… И могилы знать надо. Я и могилы на плане именами обозначил, понятно, не все… А Быково взять – что там? Ты скажешь: воинская часть, глухой забор вокруг, чекисты…
– Так и скажу.
– А я не так: десятки лет там по ночам людей расстреливали.
– Ты что говоришь, дедушка?! У моей подружки там дедушка работал!
– То и говорю, что записывать нельзя было, и рассказывать – тоже. На смертном одре иногда и открывались.
– Привозили и стреляли – без суда?
– Наверно, и по суду. Не в том дело. А вот знали – и молчали, делали вид, что ничего не знают. Сколько там лучших людей положили.
– Страх-то какой, дедушка, и рядом…
– Э, внучка, видать, по грехам… Все молчали, и я молчал, а скажи хоть соседу – тебя завтра за тем же забором и шлепнут. Донесут – вот падение какое… В начале тридцатых годов отгородились.
Вера заплакала. Поднялась из-за стола, упала на колени перед иконами. А он тем временем продолжал:
– А ты спрашиваешь, «что не записал?»… Придет время, станут говорить: «Да что старое вспоминать, покойников не воротишь…» А такое старое нельзя забывать. За такие-то дела и земной суд должен быть… Только ведь знали и соглашались, потому что считали коммунизм делом правым. Соблазнились раем на земле – вот грех…
Где-то за окнами остановилась машина, стукнули дверцы, зазвучали сильные голоса. Петр Николаевич прислушался.
– Федя, наверно, с дружком приехал… Что это они там выгружают?
Вера выглянула в окно – и содрогнулась: грузовая машина с открытым задним бортом стояла посреди улицы, и Серый выволакивал из кузова на свое плечо готовый деревянный крест с мощным бревенчатым основанием. Крест, видимо, был настолько тяжел, что даже натаскивать его на плечо было затруднительно. Но вот центр тяжести пойман, Серый выпрямился во весь рост, качнулся, для устойчивости переступив с ноги на ногу, развернулся и медленно пошел во двор… И представилась дорога бесконечная, и нет ни души на этой дороге – и уходит, уходит по ней под гнетом неподъемного креста человек – и человек этот Федя Серов, сосед, и не осилить ему крестную ношу… И Вера как будто из отчаяния в душе своей воззвала: «Господи, помоги ему!» – И мираж исчез, и видно было, как Серый вошел с крестом во двор, а уже через полминуты вышел оттуда, отряхивая и потирая ладонью плечо. Он что-то сказал шоферу, они закрыли задний борт и пошли в избу.
– Так что там? – спросил Петр Николаевич.
– Да ничего, телевизор привезли.
– У него есть один.
– Может, не себе или цветной.
– А я думал – крест, – и глубоко вздохнул. – Тебе ведь восемнадцать уже, – точно подумал он вслух. – Вот и муж рядом ходит.
Вера и зубами стукнула:
– Да ты что, дедушка? Ты что мне сулишь?! Да ему, наверно, уже лет тридцать, старик уже… Господи, дедушка, да ведь он женатый. У него семья – резко понизив голос, заключила она. А дедушка беззвучно засмеялся:
– С такими шлендами семей не заводят, с такими блудят… Лет ему двадцать восемь. Да и к слову я это сказал, не то что прямо: выходи замуж.
Два пруда нашему селу необходимы. Общий пруд служил не только для стада, хотя стадо – главное, но ведь и карася там разводили – такие ли лапти водились! И чистили пруд своевременно. Купаться в пруду не разрешали по санитарным причинам, хотя дети лазили. Там и ботники общественные были, с ботничков и карася брали.
К барскому пруду никакой скотины не подпускали. Но уже на моей памяти здесь купались даже взрослые, потому что и дом барский пустовал.
После переворота пруды стали бесхозные: их не чистили, начали бросать в воду что ни попадя – от железяк до падали. Грех перед Господом свершили: освященную воду осквернили – это и определяло уровень нравственности. Теперь в барском пруду по весне на четверть зеленой воды, в общем – свалка. Очнемся ли? А ведь должны очнуться. Все может статься, но если с Богом, то должны! Как восстановить пруд? В обоих прудах, если провести линии из угла в угол, то на пересечении и были донные ключи… Сначала вычистить от нечистот, затем на 120–140 см снять верхний слой – бескультурное накопление за семьдесят лет; берега пологим откосом. Затем уже докапываться до ключей – они там сами себя покажут, если Господу угодно, как чирьи кучками на квадратной сажени… Наполнять пруд с умом: нельзя, чтобы всякая грязь стекала. И снеговая, и дождевая, и колодезная, если чистят, и лед – все в пруд. Но особенно для дождя необходимы сливы и отстойники. За год пруд должен быть заполнен, а там и малька на расплод запускать можно.
– И вот, Верушка, еще какая загадка – есть о чем подумать… Правда, об этом я что-то хотел записать, не помню. Ондрюшину тропу я знал и хаживал по ней с детства. Так вот кольцо-то железнодорожное точнехонько легло по Ондрюшиной тропе.





