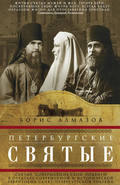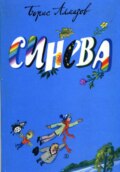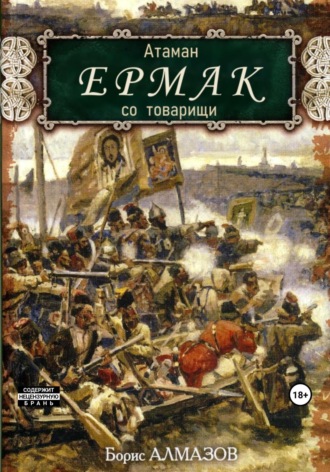
Борис Александрович Алмазов
Атаман Ермак со товарищи
– Спасибо, братья казаки, – поклонился в пояс станичникам Ермак, – Сейчас отделим часть на дорогу, раздадим атаманам, потому как идти надо розно, хоть бы в три отряда, разными дорогами. Не то на постоях оголодаем… С казной возились долго. Некоторые казаки было собрались выйти из Круга, но есаулец цыкнул на них:
– Стоять! Стоять, чтобы все при общем догляде было! Чтобы посля, какая вошь не завоняла: «Не видал, без меня делили!» Стоять!
Атаманы разделили казну, разобрали раненых. Только после этого принялись рыть братскую могилу для убитых да сколачивать гроб для Черкашенина..
Часть казаков ушла рыскать по окрестностям – добывать сани. Весь следующий день хоронили убитых и умерших казаков, ставили кресты, чинили сани, из десятка ломаных собирая пару годных. Служили панихиду и на третий день с рассветом обнялись, попрощались и тронулись, тремя разными дорогами, на Дон. Не ведая, кто дойдет, а кто нет. Потому что можно и на разбойных татар наскочить, и на государевых стрельцов – – да мало ли что ждало на дальней тысячеверстной дороге три горсти людей, обремененных тяжкими обозами, с изувеченными товарищами.
Ермак отдал отощавшего своего коня в запряжку, а сам сел на сани, где, укутанный сеном, укрытый глыбами льда, ехал в гробу грозный и всеславный атаман Войска Донского Миша Черкашенин, возвращаясь в отеческие земли Старого поля. Верстах в пяти от сгоревшего дотла посада Псковского Ермак оглянулся на далеко черневшие среди снегов стены города и, опять усмехнувшись, сказал: «Вот те и Пермское воеводство!»
И непонятно было, с грустью это сказалось или с радостью.
За Рязанью Старой
За Зарайским городом,
За Рязанью Старою
Из далеча чиста поля,
Из разделил широкого
Привезли убитого
Атамана польского,
Как бы гнедого тура.
Атамана Донского,
А по имени Мишу Черкашенина.
Аи птицы-ластицы
Круг гнезда убиваются,
Еще плачут малы детушки
Над белым его телом.
С высокого терема
Зазрила женка казачья
И плачет-убивается
Над его белым телом,
Скрозь слезы свои она
Едва слово примолвила,
На белу телу жалобно причитаючи:
«Казачий вольныя
Поздорову приехали,
Тебя, света нашего, не стало,
Привезли убитого,
Атамана Донского,
Атамана польского,
А по имени Мишу Черкашенина».
Под Старую Рязань вышли в марте. Уже вовсю припекало и лед в санях тёк, кони тянули с трудом, потому дороги кое-где тронулись. Казаки поговаривали, что ежели так дале пойдет, то придется гроб на вьюки перекладывать и коньми, без обоза идти. Да обоза уже и не было. Оставляли в монастырях и раненых, и сани, и лошадей. Потому и лошади были до того отощавшие да надорванные, что толку с них чуть. Трусцой да шагом еще кое-как тянулись, а чтобы на рысь или в мах – никак не подымались. По всем придорожным деревням избы стояли без соломенных крыш – кони съели все. Коровы в коровниках держались на оглоблях и ремнях от бескормицы, народ кое-как перебивался репой да лепешками с корой и мякиной. На дневках, ежели припадало стоять в осиннике, кони, как лоси или бобры, кидались грызть кору.
Ермак, почерневший, с проваленными глазницами, сначала ехал, а потом шел за санями с гробом неотступно. Те, кто знал его прежде, не могли припомнить, чтобы он так долго молчал. Прежде веселый и разговорчивый, как полагалось казаку, нынче Ермак был угрюм и молчалив, будто монах. А вот монахи, попадавшиеся на пути, были не в пример говорливей и за каждого раненого торговались, как барышники на конской ярмарке. Да и то сказать – монастыри были набиты увечными, кое-где от скопления людского, от худой кормежки начиналась дизентерия.
Ермаков обоз тянулся утренними заморозками или еще морозными лунными ночами – на солнце в протаявших колеях стояли лужи.
Печаль первых дней, когда узнали казаки о гибели войскового атамана, прошла, но заменила ее тоска от бесконечной дороги, от таскания тяжеленного гроба. Потому, когда вся рязанская казачья орда кинулась навстречу пришедшим, казаки даже улыбались и радовались, что совсем не пристало на похоронах.
В Рязани собралось много старых родов, казачья община была большой и сильной. Сюда, под защиту крепостных стен, издавна прибегало все, что оставалось православного в степи. Здесь плечом к плечу с рязанскими воинами стояли противу татарских набегов казаки. В Рязани поджидали Ермака и те, кто пошел другими дорогами: Черкас, Окул, Кирчига, Шабан…
На похороны атамана Черкашенина пришла Белгородская, Мещерская, Елецкая и случившаяся неподалеку Касимовская орда. Пришли темниковцы, пришли казаки с Червленого Яра, с Хопра, Айдара…
В солнечный мартовский день огромная процессия конных и пеших казаков, женщин, стариков, детей двинулась из Старой Рязани в сторону границы, где за тремя курганами начиналось Старое поле – земли вольных казаков. И хоть давно считались эти земли рязанскими, а все упорно твердили степняки – здесь граница, вот эта сторона ваша, а вот эта, напольная, – наша. И показывали три насыпных кургана, утверждая, что здесь лежат первые атаманы, которые привели казаков в Старое поле от Золотых гор из страны Белводской, когда казачий народ был многочислен и силен. Никто не помнил имена этих старых вожей, никто не знал, когда это произошло. Говорили только: «в старые годы, давние времена», а дальше путались: не то при Владимире Красное Солнышко, не то раньше.
Но курганы стояли, и было видно, что от прежнего величия не осталось ничего. Вряд ли собравшиеся почти все казачьи коренные семьи могли бы насыпать шапками курган и в десять раз меньший, чем каждый из трех старых. Поэтому на вершине старого кургана отрыли могилу для Черкашенина. Атаманы поднялись с гробом наверх, и старший из них, восьмидесятилетний темник Кумылга, сломал о край гроба саблю Черкашенина и положил ее по сторонам трупа. На закрытый гроб поставили чашку с вином, прочитали отходную, приглашенный рязанский священник отпел умершего раба Божия Михаила, хотя кто-то из стариков усумнился, что Михаил и Миша – не одно и то же имя. Мол, «Мишей» Черкашенина звали потому, что он был силен, как медведь. Но, поскольку никто крестного имени атамана не знал, не стали возражать против Михаила, считая, что Господь сам определит, как звали верного Его воина и казака. У Господа ведь безымянных нет.
Могилу засыпали, и тут пришел черед старым обычаям, потому что умирал последний казак из некогда могучего рода Буй-Туров, Гнедых туров, Быкадоров…
Все атаманы старых родов отхлебнули из стертой чаши по глотку вина и разбили ее о камень, положенный на вершину холма, где была нацарапана тамга рода Буй-Туров.
Около камня разожгли огромный поминальный костер и долго глядели в гудящие полотнища огня. Жаром жгло лица и сушило слезы, потому что сороковой день – – поминальный – давно прошел и плакать больше о мертвом нельзя, слезы близких отягощают пелены, в которые завернута душа, и она не может уйти в небесные просторы к Господнему престолу.
– Все, – сказал темник Кумылга, – Нет боле Быкадора-Черкашенина.
Он поднял из догоревшего костра горсть еще теплого пепла, подкинул его старческой сухой рукой вверх, на ветер. Легкий пепел рассеялся над степью.
Кумылга спустился с холма, тяжело вскарабкался на коня и поехал в сторону своего юрта – прямо на полдень, – сопровождаемый горсткой воинов своего рода. Скоро их редкие фигуры с особым казачьим наклоном в посадке растворились в голубой степной дымке.
Подобрав полы синего архалука, поднялся в седло старый Букан и увел десяток своих казаков в сторону Букановского юрта.
– Мало нас осталось на этом свете, – сказал Ермаку атаман Алей Казарин. – Мало.
– Что об этом думать, – сказал Ермак. – Если умрем достойно, то приложимся к нашим, у Господа будем едины с народом своим и со Христом…
– Не всем повезет так умереть, как Черкашенину. Сказывают, он голову свою на выкуп Пскова отдал?
– Говорят так, – подтвердил Ермак.
– Позавидовать можно, – вздохнул Казарин. -Точно он у Господа в славе и покое. А тут не знаешь, как и жить. Стали казаки в Старое поле возвращаться, да своих юртов не помнят, где чьи кочевья, не помнят. Дерутся меж собой.
– Неужто Старое поле им мало сделалось? – ухмыльнулся Ермак.
– Стало быть, мало! Коней друг у друга угоняют, отары угоняют. Ловы по Дону да по запольным рекам друг у друга перехватывают. Неправду в Старом поле творят…
– А что ж старики-то смотрят?,.
– Старики? – невесело засмеялся Казарин. – А кто их слушает, стариков-то?
– Во как?! – удивился Ермак. – Да, видать, давно дома не был, коли тут такое!
– Старое поле не узнать! Здесь нонь неправда живет. Вон Кумылга поехал – самый старый в Поле. А сколь у него родаков? Семнадцать человек, да и те все для боя негожие! Он, может быть, и стал бы жить по присуду, да где у него сила? А тут кои приходят из Руси, самих-то казаков старых родов с десяток не наберется, так они на Руси у Царя в сотники, а то и головы казацкие выходят и приводят сюда по две, по три сотни голутвы! И творят что хотят, своевольничают!
– А что ж атаманы? – сказал Ермак. – Куда атаманы смотрят, когда старые роды забижают?!
– Эва… – Казарин похлопал себя нагайкой по голенищам сапог. – Да где они, атаманы? Они все на войнах. Старое поле впусте стоит! И казакует тут всякая шалупонь.
– Это мне голос новый! – признался Ермак.
– Вот те и голос! – вздохнул Казарин. – Век бы того голосу не слыхать! Сила над честию верховодит!
– Беда! – подытожил Ермак.
– То-то и оно, что беда! – согласился Алей Казарин. – Тута то ногайцы, то черкасы… То свои – хуже басурман. Вот и вертимся в Старом-то поле, на своей отчине, как сатана на свечке…
Они замолчали, глядя на остывающие угли.
– Сам-то чего делать будешь? – спросил Казарин.
– Счас на стругах по Дону на низ пойду, к своим юртам, надо людям роздых дать – кой год без передышки.
– Ну-ну… роздых, – сказал Казарин. – Я, слыхал, и у тебя там чегой-то не кругло!
– Через чего? – вскинулся атаман.
– Да навроде, слыхал, ваши чиги с каким-то Шадрой рубились.
– Что за Шадра?
– Не знаю! Послал наших туды узнать, как чего, – но ростепель, а они конно пошли. Надоть на стругах… Ты давай сам сплавай, ежели чего – я полста конных приведу – будь в надеже.
– А верные ли?
– Да пока вроде не изменяли, – сказал Казарин, – а там – кто их знает. Моих-то родаков осталось восемь человек. А это все пришлые. Из Руси голутва, да пять литвин, да поляков трое. Вот теперь такая Казариновская орда. Однако ехать надоть, – сказал он. – Ростепель! Не дай Бог, в степи половодье захватит. Ты-то как дальше пойдешь? – спросил он, поднимаясь в седло.
– Сейчас на Елец, а там – на Дон выйду, струги либо куплю, либо поделаю и на низы поплыву! ответил Ермак. – В свой улус. Нам тут не прокормиться, а тамо у нас отары да табун…
– Ну – помогай Бог! – приветственно поднял нагайку Алей. И показалось Ермаку, что Казарин что- то недоговаривает, но спрашивать было не с руки -Казарин Ермака помоложе.
У подножия кургана горели десятки костров. Казаки ели поминальную кутью, вспоминали все хорошее, что сделал Миша Черкашенин, с тем чтобы душа его, пребывающая сейчас между казаками, слушая это, набиралась славы для ответа на Страшном суде и оправдания…
Ермак походил у костров, помянул погибшего атамана с одними, с другими. Но на сердце было неспокойно. Что-то недоговорил Алей, но о чем-то предупредил.
За те годы, что не был Ермак в Старом поле, все здесь изменилось. Сменилось поколение. У костров, где раньше собирались все, кто был Ермаку знаком, сидел нынче народ ему неизвестный, да и он большинству не памятен. Знали только, что Ермак Тимофеев Алеев из рода Чигов, что у Царя на службе долгие годы пребывал… И все.
От трех курганов, на самой границе Старого поля, собравшиеся на похороны разъезжались врозь. Большая часть пошла через нетронутые еще снега прямо на юг, где во всех городах на старой границе стояли гарнизонами степняки-казаки, – Ряжск, Скопин, Данков… В этих городах-острогах почти вся городская стража была из выходцев со Старого поля или возвращающихся после двухсотлетнего изгнания с севера, из Литвы и других украин степняков.
Ермак же, на совершенно обезножевших лошадях, пройдя через линию между крепостями Ряжск и Скопин-городок, вышел к узкому еще и незаметному подо льдом Дону. Но это уже был Дон! Он бежал туда -на юг, в страну Куманию, в Половецкую степь, в «Дешт и кыпчак», в Старое поле, куда рвалась душа и самого атамана. Туда, где нет ни Царя, ни воевод; где шелковые травы, медовые реки…
Они грезили о Старом поле, прикрывая глаза от слепящего мартовского солнца, которое горячими лучами топило сугробы, журчало в теплые полдни капелью в оврагах, отливало на черных крыльях копошившихся на проталинах грачей.
Рязанская детвора – по-северному голубоглазая, по-южному смуглая – уже таскала на прутиках выпеченных жаворонков, крошила хлебом под окнами, припевая:
– Жаворонки, прилетите, Весну красную принесите…
«Жаворонки, – усмехался Ермак. – Прилетите, но не больно весну торопите. Дайте нам хоть до Ельца дойти».
Ермак решил пересесть на струги и без коней, оставив только небольшой конный отряд, плыть по Дону в Качалин-городок. Иной дороги уже не было. Степь начала таять.
О возврате в Москву тоже думать не приходилось. Подорожная у него была только до Пскова. Дальше он шел уже нарушая предписания – по своей воле, по своему разумению, а стало быть, не по цареву указу, не по Государеву закону. Поэтому с последней отметкой дорожной стражи превратился он из казака служилого в казака вольного… А ежели шла бы их не сотня, вооруженная да снаряженная, да с бочонками трофейного пороха и даже небольшими пушками на санях, вряд ли пропустили бы их московские сторожи. Пушки и пищали, имеющиеся у каждого казака, мгновенное построение для боя быстро приводили в разум самого корыстолюбивого и взгального воеводу, который в «скасках», посылаемых в Разрядный приказ, вместо «прорвалась на Дон ватага казачья» предпочитал писать «проследовали к засечной линии служилые казаки под водительством атамана Тимофеева со всем воинским припасом для огненного боя».
Таких отрядов о ту весну на юг тянулось много. И пограничники московские смотрели сквозь пальцы, ежели кто-то следовал без грамоты, самовольно. Шел-то ведь не на гулянку, а на войну, которая становилась все явственней. Все чаще из степи налетали ногайские разъезды. Пока еще только маячили в виду засек и острогов, но могли и нагрянуть всей ордынской силой. Вот тогда каждая рушница, каждая сабля будут на счету. Потому, глядя вслед Ермакову отряду, воеводы приговаривали: «Пущай идут себе! Пущай с татарами пластаются. Пущай дружка дружку режут на здоровие. Русь целей будет. Лучше пущай в степи дерутся, чем под городскими стенами». Правда, иногда закрадывалась мысль, что могут эти неугомонные с татарами замириться да под стены нагрянуть вместе с ними. Тогда крестились опасливо: «Господи, не допусти».
Прочно срубленный деревянный Елец на высоком меловом берегу завиднелся издалека, да подойти к нему было непросто. Шли с напольной стороны вдоль реки Сосны, где уже вовсю подтапливала заливные луга полая вода.
Через реку переправлялись, молясь Богородице, чтобы предательский темный лед простоял хоть ночку. Шли со всеми опасениями: напольная сторона была издавна степной, казачьей, потому от Рязани ею и пошли. Здесь у Рязани кончились все подорожные бумаги, и всякий разъезд московский мог чинить казакам преграды, иди они высокой береговой стороной.
Неприятно это все было Ермаку. Отвык он жить воровским способом. Не один десяток лет был казаком служилым, а тут вот незаметно да непонятно, а опять оказался на волчьем казачьем положении. Конечно, вряд ли какой воевода отважился бы вступить в схватку с двумя сотнями казаков, до зубов вооруженных и закаленных в многолетних боях с поляками, но пальнуть наудачу мог. И атаман понимал, что ему любое столкновение, которое потом в донесениях распишут как великую битву, ни к чему. Он и казакам заказал свое имя называть, вернувшись к старому степному -Токмак.
Токмак и Токмак – а там понимай кто: казак ли, татарин. Никто и спрашивать не решится, куда идет отряд. Потому и переправляться решили у самого Ельца. И была та переправа опасной.
Спасибо, ночь была лунная, ясная… Обвязавшись веревками, щупая полыньи и промоины шестами, далеко друг от друга пошли через реку пять человек.
На всякий случай оставшиеся держали запаленными фитили у рушниц кто знает, может, на том берегу казаков ждет неведомая засада. Хоть москали, хоть татары – – захватят, а потом разбирайся.
Растянувшись в две цепочки, первые казаки пометили веревками края переправы, и отряд по одному, по два человека, спешившись и держа коней в длинном поводу, перетянулся на высокий елецкий берег. Последние шли уже на восходе.
Замыкающими шли Ермак и самый молодой атаман Черкас.Еще прошлым летом прилип к Ермаку этот молодой казак. Был он откуда-то с низов. Расспрашивать было у казаков не принято, но из разговоров Ермак догадался, что побывал Черкас еще мальчишкой в Запорожье, был и в Крыму полонянником, бежал. Что вся родова его не то погибла, не то рассеялась, а жил он с родителями под Бахмутом…
Частенько смотрел Ермак на то, как Черкас ловко сидит в седле, как разумно и толково командует двумя десятками своих казаков, среди которых были и много его старше, но слушались ради уважения к уму и храбрости.
– «Эх! – думал атаман. – Кабы мои-то живы были… Вот такие бы сейчас были…»
Потому и теплилось в нем отцовская любовь к этому статному казаку – даром что черкасу… На низу каждый второй наполовину черкас. Вон и у Черкашенина отец черкас был, а выбрал Круг его войсковым атаманом. Круг выбирает не по родовитости, а по достоинству. Может, когда и Черкас в атаманы выйдет. Хотя тяжкая это доля – быть атаманом!
Лед трещал и прогибался. Под берегом уже темнели промоины.
– Ну что, сынок! – сказал Ермак, приободрясь. – Давай по-казачьи!
Они были последними и потому могли себе позволить этот пустячный, по сравнению со всеми остальными опасностями, риск.
Черкас улыбнулся и, распустив повод, отъехал от Ермака саженей на пятнадцать.
– Айда! – крикнул он, хлестнув коня камчой. Усталый от двух месяцев дороги, голодный конь с трудом поднялся в галоп, но разошелся, чуя опасность, и вылетел на лед во весь мах.
Страшно гикнув, сорвался на лед и Ермак. По-молодому привстав на стременах и нависая над шеей коня, он птицей перелетел через реку. У самого берега конь провалился задними ногами, но рванул на передних и вынес всадника на каменную осыпь. Черкас уже оглаживал коня, сияя ослепительной белозубой улыбкой.
– Ну, вот! – сказал Ермак, – Полно, братцы, нам крушиться! Скоро дома будем.
Высоко на стене деревянного острога забухала сапогами стража. Полыхнул раздуваемый пушкарем фитиль.
– Кто такие? – крикнули со стены.
– Свои! – – ответил Ермак. – Служилые казаки. Из Пскова ворочаемся.
К удивлению атамана, со стены не спросили грамоту, а успокоенно сказали:
– Ступайте в посад. По правой стене объезжайте, как раз и ладно будет.Чего-й то вы припозднилися? Ваших в степь вон сколь уже прошло.
Стражники доверчиво вылезли на стены, высовывались из бойниц.
– А правда, что Черкашенина убили? – спросил освещенный пламенем фитиля пушкарь.
– Правда! – сказал Ермак. – Мы его и привезли в Старую Рязань.
– Жалко! – пожалели на стене. – Хороший был атаман. Я с ним на Азов ходил.
– Ты городовой, что ли? – спросил Ермак.
– Городовой казак Елецкой сотни, – ответил пушкарь. – А вы-то чьи?
– Всякие, – уклонился Ермак.
– Ну и ладно, – не стал расспрашивать городовой казак, – Елец – всем ворам отец. Только вы чего-то с Поля пришли, будто крымцы. В казаки-то от нас идут…
– Да и мы уйдем. Вот струги добудем да и поплывем на Низы. Не слыхал, струги у вас никто не ладит?..
– Как не ладит! Мы в Ельце все могем!
– А есть струги на продажу?
– А как же! И струги есть, и лес.Тем живем, тем кормимся. «На Сосне да на Вороне стоят струги в схороне…» Правда, казаки уж много перекупили, да для такого случая хозяева и свои продадут. Когда еще столько людей через Елец пойдет. А вам без стругов нельзя, – сказал словоохотливый стражник. – Вот как раз по полой воде и поплывете, тут важные ледоходы бывают, так за ледком и сплавитесь.
– Может, кто подсобит струги-то купить?
– Да с дорогой душой!– ответило сразу несколько человек. – Найдем! Завтра в посаде мы вас отыщем. А сегодня не взыщите, нам острог отворять не велено…
– Да мы без обиды. Сами служивые. Понимаем.
– Вы туды, направо, в Черную слободу, ступайте. Тамо всех приютят, а завтра мы вам пособим… Без стругов-то вам никак не успеть…
Однако, в Черной слободе в каждом дворе стояло по пять-шесть казачьих коней, избы были набиты лежащими вповалку воинскими людьми.
– Да откуда вас столько понаперлось?– удивился есаул Окул.
– Как откуда? – отвечали ему. – Все оттуда, откуда и вы, – из-под Пскова. Государевым указом на засечную линию переведены. Так что не обессудьте, станичники, а ночевать вам негде. Мы вон еще избы рубим, потому из Москвы стрельцы скоро придут, кубыть с две тысячи!
– Ого!
– Вот те и ого! По всему видать, как дороги станут – ногаи на Москву пойдут.
Пришлось идти от города в прямо противоположную сторону: слева от Ельца, ежели смотреть из Старого поля, в десяти верстах начиналась линия, которую держали служилые казаки. Приняли они ермаковцев с распростертыми объятиями. Одни потому, что, может быть, впервые видели настоящих, природных казаков; другие потому, что жила в них не то обида, не то вина, что стоят они на линии против своей родины, против Старого поля, и под командою родовых или выбранных атаманов исполняют приказ московских воевод.
Утром, когда отоспались в казачьих землянках, похлебали горячего кулеша, пошли разговоры да знакомства. К вечеру второго дня постоя из-под Ливен прискакал атаман Яков Михайлов – кинулся к Ермаку.
– Ну, все! Ну, все! – говорил он, смахивая непрошеные слезы радости. – Теперь, как обратно стретились, и не расстанемся. Никуды я от тебя теперь, Ермак Тимофеич, не поеду. А то обратно разбежимся на пятнадцать лет… И все мои люди с тобой пойдут.
– Что за народ?
– Что и везде: голутва да татары! Двое навроде с Москвы, один, как я, – из Суздаля.
– Коренных казаков нет?
– Откуда им быть? Те все в поле казакуют, ежели, конечно, остался там кто. Там, слыш-ко, свара какая-то была, какой-то Шадра навроде баловал.
– А что люди говорят?
– Какие люди! Энти люди тебе расскажут, что в Москве у Рогожской заставы стрельчиха на обед куму варит, а что в Старом поле, им не ведомо и вовсе не интересно. Одно слово – москали.
Они уселись на кошму, отбили головку у засмоленной корчаги польского меда, привезенной для такого случая запасливым Яковом.
– А тебе-то интересно? – усмехнулся Ермак.
– Как когда! – простодушно ответил Михайлов. – Как сыск беглых пойдет, так интересно, что на Дону, а как бояр припекут татары к заднице, да станут они сюды прелестные грамотки слать, мол: «Спасайте, казаки, помогайте! Ежели пособите – все вам будет, всех в боярские дети запишем, а которые не хочут -обелим. Беломестными, стало быть, станете!», – тады интересно, что на Москве.
– Помирать-то где думаешь? – – наливая, сказал Ермак. – В Москве али в Старом поле?
– Вона хватил! Я помирать-то и не мечтаю! Чего это мне помирать! У меня вон, кабы не те два, что турок выхлестнул, – все зубы целые, а ты – помирать… Ежели на дыбе и в застенке московском – тады в Старом поле, а ежели у татарина на пике або у поляка на колу – тады в Москве! – засмеялся щербатым ртом Михайлов. – По мне – лучше не помирать. Ноне самая жизня – все дерутся, все к нам на поклон бегут, все посулы великие сулят. Всем мы нынче нужные.
– А ненужным станешь – куда денешься? – пытал Ермак.
– А ненужным стану, – делая глоток в полкорчаги и утираясь рукавом, сказал Михайлов, – тогда и думать буду! Ты лучше вот что ответь – берешь меня в свою ватагу?
– Беру, беру! – засмеялся Ермак. – Но, чур, не своевольничать.
– Ты что, батька, когда я своевольничал? Все, как Круг решит, исполним в точности! На Круг-то поедешь? Ведь Черкашенин, Царствие ему Небесное, преставился… Дон без атамана!
– Поеду! – сказал Ермак. – Вот сейчас струги наладим – и за половодьем пойдем на Низы.
– Дело! – мотнул чубатой головой Михайлов., – Батька, ты не обижайся, а мы тебя войсковым атаманом кричать будем, заместо Черкашенина! Ты не обижайся. Всех сместим – тебя поставим, и будешь нами владеть!
– Эх, Яша! – сказал Ермак. – Пил бы ты молоко! Ложись отдыхай!
Захмелевший Яков пытался возразить, но крепкий мед свое дело делал.
– Они мне говорят, служи – в дворяне тебя запишем, беломестным сделаем. А зачем мне беломестным – я пашни не держу! Я человек вольный! В боярские дети выйдешь, говорят… А из меня боярин – как из хрена свечка… Не, батька, я с тобой пойду! И все наши с тобой пойдут! – сказал он, укладываясь на кошму и по-детски причмокивая губами. – Господи, батька Ермак Тимофеевич, – радость какая… Сколь мы с тобой похаживали, а ты пятнадцать годов мотался незнамо где, а я тут, в одиночестве. – Яков всхлипнул и захрапел.
Ермак вышел из землянки, которую отвели ему как атаману гостеприимные елецкие казаки. Горели костры, и в прозрачном свете уже совсем по-весеннему теплой ночи хорошо виднелось собравшееся у костров воинство.
Народ в большинстве молодой, горластый. Пели песни, а кто-то и приплясывал, радуясь встрече, запамятовав, что пост не кончился. Сидели вперемежку москали, татары мещерские, татары елецкие, черкасы, казаки коренные… Но коренных было мало – совсем мало, – синие родовые архалуки их тонули в пестроте разномастных одежд, в основном взятых с бою. Только что архалуками да высокими шапками и тумаком отличались они от остальной вольницы. Человек несведущий и не угадал бы их.
Отметил Ермак и еще одну грустную особенность – его соплеменники все больше пожилые. Два-три молодых лица, да и на тех какая-то, одному ему видимая, усталость…
«Уходит народ, – подумал Ермак. – Уходит, не выдержав тех испытаний, что обрушили на него последние триста лет. Нас у матери было пятеро – в живых остался я один – у меня – никого… В роде Ашина – Алим, кум московский, сказывал – он в роду – пятнадцатый ребенок. А у него – трое сыновей и всего один внук – Якимка. Нужно возвращаться! Идти в свои старые юрты, поднимать будуны, ставить улусы и вежи, разводить табуны, отары. Чтобы вновь цвело Старое поле красотою своих сынов – казаков коренных, природных.
– Домой! – решил Ермак. – Домой! Туда, где кочует Качалинская станица, где ходят тучные отары и большие табуны… Домой! На Дон, на самое колено его, на Переволоку, в родовые степи!
Краденый табун
Весенним светом наливались дни, и душа рвалась на волю. Туда, в степную ширь за рекою Сосною, где нет власти ни царской, ни боярской, ни денежной, а только ширь темно-синего неба, зеленые увалы в алых маковых реках, синева озерная; где реки текут медовые, а травы стоят шелковые… Много испытали казаки власти царской, много боярской, но пуще тех двух была власть денежная, и это они очень хорошо почувствовали в Ельце-городе.
Все, что казаки навоевали и выслужили да в казну общую сложили, быстро истаяло. Много раздали на вклады в монастыри, много ушло на постои да на корм лошадям – ведь третий месяц в дороге. А как из Пскова вышли, так вместе с окончанием подорожной кончились и Государевы дармовые харчи. Везде за свои денежки покупать пришлось да христарадничать, потому как войск на юг шло много и деревни столько едоков и постояльцев не выдерживали.
Ермак тянул да откладывал, прижимал денежки, а все они сыпались, как меж пальцев песок. Вот и вышло, что в Ельце с купцами-корабельщиками никак в цене не сойтись. Они свои резоны приводили: цены на лес да на мастеров. Струги-то у них были очень хороши, но больно дороги.
Собрались атаманы на самую неприятную беседу – деньги считать.
– Так что, – сказал Ермак, – можем только пять стругов купить, и на большее у нас денег нет. И то истратим все до копеечки, голы на Дон пойдем, только рыбой и станем кормиться, даже хлеба не возьмем в достаточности. Коренные-то казаки и без хлеба больно хороши будут, а голутвенным, из Руси пришедшим, – без хлеба никак нельзя. Ослабнут.
– Ну и чего делать? – спросил Яков Михайлов.
– Не знаю, – вздохнул Ермак. – Пять стругов – мало. Они всех не подымут, а случись столкнуться с караваном, да еще с воинским, они нас мигом перещелкают. Так что, может, вовсе стругов не покупать, а купить на казну харчей да и пойти через Дон на низ пешки…
– Ого! По жаре да по чистому полю… Наскочат татары, вот те и будут Низы.
– Наскочить-то не наскочат – много нас, – сказал Ермак. – Отмахаемся! У нас огненного боя в достаточности. У каждого по две, не то по три пищали, да рушницы. Как наскочат, так и отскочат. Но придем мы на Низ чуть живенькие, в одних убытках и полном художестве. Все истрепемся-изорвемся и коней погубим вовсе.
– А у меня – другой сказ, – сказал Яков Михайлов. – Ты, Ермак, человек степной, а я лесной! И у нас все казаки, из Руси которые, – топор в руках держат. Потому струги мы покупать не станем, а купим лесу да сами струги и сладим, и будут они лучше покупных, вот те крест!
– Верно! – подтвердили Гаврила Ильин и другие голутвенные. – Да мы и лесу-то покупать не станем. А чуть сплавимся по Дону, а тамо такие рощи да леса, что на тыщу стругов лучшего лесу наберем. Много ли на струги лесу надо? Тьфу!
– Это дело, – согласились и другие атаманы.
– Рубить надо скоро, – сказал Ермак, – чтобы по полой воде сплавиться.
– Да, чай, не царский терем! Чего его долго-то рубить? Небольшие кораблики-то чего не рубить! А плотником у нас, почитай, каждый второй!
Быстро рассчитали деньги на инструмент да на железо, остальное –на припасы!
– Ну, вот и ладно! Вот и ладно! – радовался Ермак. – И сыты будем, и поплывем на стругах. Рыбы наловим. Отдохнем. На стругах-то плыть на Низы -такая благодать…
Не откладывая дела, большая часть казаков с новенькими топорами пошла лес валить. Доставали какие-то топоры из котомок, и для многих это была единственная вещь, из дому несенная, потому, может, и домов-то этих в такое лихолетье уже нет… Кто знает, что вспомнилось людям, пришедшим в степные края из коренной, лесной Руси, когда направляли они на наждачном камне годный для труда и для боя инструмент. Были крестьяне да лесорубы, стали служивые да казаки. А все тянуло домой, на лесную сторону. Под старость все, кто на Дону прижился и выжил, норовили обратно уйти, хоть в скиту, хоть в деревне какой укорениться но дни жизни скончать в лесной красоте, а не в степной пустыне, которая так и не становилась им отчизной. Казаковали они по многу лет, чтобы там, на родине, позабыто было их имя и сыск окончен. А потом все же возвращались.