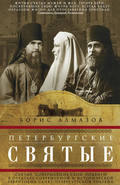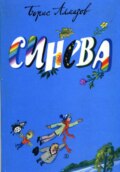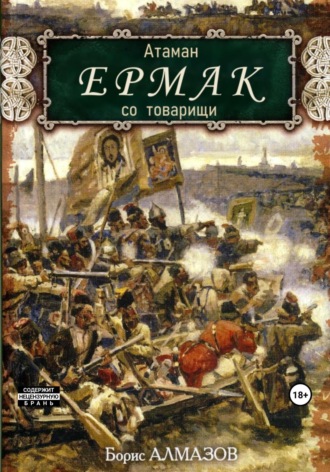
Борис Александрович Алмазов
Атаман Ермак со товарищи
Поссевино выпил свое вино и добавил, словно прочитав мысли агента:
– Не надо, мой друг, преувеличивать могущество Ватикана и его друзей, но не следует их и преуменьшать.
Они еще поговорили о том о сем, просмотрели несколько бумаг, принесенных секретарем, а затем Поссевино сказал как бы невзначай:
– Польская кампания завершена. Она остановлена накануне краха, в самом удачном месте. Теперь центр тяжести переместится на юг. Главными действующими лицами станут наследники Золотой Орды.
– Но русские привыкли сражаться с татарами. Последнее время они их повсюду побеждают. После взятия Казани…
Поссевино перебил:
– После взятия Казани прошло три десятка лет… Ее нужно опять брать! Рассыпавшись на мелкие ханства, Орда не умерла. Как разрубленная змея, она способна опять срастись и соединиться. Ее нужно только сбрызнуть живой водой – золотом.
– Но последние набеги с юга постоянно оканчивались для татар неудачами…
– Значит, нужно брать направления восточнее, севернее…
– Крым, Волга? – спросил поляк.
– И Сибирское Ханство, – сказал Поссевино. Он омыл пальцы в миске с теплой водой, вытер руки салфеткою. – Как-то в Польше я участвовал в охоте на медведя. Отважный шляхтич посадил зверя на рогатину, но медведь вырвал ее из рук охотника. И бросился, с рогатиной в груди, прямо на нас. Его остановили собаки, которые впились ему в спину, в ноги… Каждая из них не могла справиться с медведем, но их было много. Они отвлекли медведя на себя, и охотник смог нанести решающий удар. Кстати, медвежатина – великолепна… Время охотников, наносивших первый удар, прошло. Сейчас будет некоторая пауза. Сейчас время собак… А затем охотники вернутся, – добавил он, прощаясь.
Улегшись на постель в своей каморке, поляк долго не мог уснуть. Привычный к размышлению мозг позволил ему соотнести события последних месяцев с тем, что так откровенно высказал, явно обрадованный смертью царевича Ивана, папский легат.
Россия, сбросившая власть Золотой Орды, разворачивалась, как молодой лист, вырвавшийся из почки, как сильное молодое растение; она распространяла свои ветви и корни все дальше и дальше. Москва отбивалась на юге и рвалась к морю на западе. Но ее интересы пересекались, скрещивались, сплетались с интересами других стран. Их было много, а Россия была одна. Она мешала всем. И страшно мешала католическому Риму.
– Фантастическая страна! – – шептал поляк, глядя широко раскрытыми глазами в темноту. – Ее же не было! Ее совсем недавно не было! Была Золотая Орда, с которой Ватикан умел ладить. Мир был стабилен. И вдруг… Орды нет. А эта голодная, окровавленная внутренними распрями, грязная и непонятная страна поднимается на востоке Европы. Третий десяток лет идет война в Ливонии. Лучшие войска Европы умирают под стенами ее крепостей. А из России идут и идут новые и новые полчища и виснут на этих войсках. Идут народы, которые совсем недавно враждовали между собой, идут, не понимая языка друг друга, однако и теперь еще на вопрос: «кто вы?» – отвечают совершенно по-разному. Но на вопрос: «чьи вы?» – одинаково: «русские»! Идут черкасы и севрюки, чиганаки и буртасы, черемиса и касимовцы, темниковцы… – и все кричат: «Мы Московского Царя подданные – русские!»
Он думал о том, что цепь случайностей, крамол, измен, смертей, происходивших в этой кипящей темноте, именуемой Русь Московская, не так уж случайна. Как и неожиданная смерть царевича Ивана.
Все непредсказуемо, все случайно, но почему-то выстраивается в стройную систему, за которой чувствуется направляющая мысль.
– Чья? – шептал поляк. – Ватикана? Этого не может быть! Можно допустить, что Крым, получающий поддержку в Риме, ногайцы – вассалы Крыма, поднимающаяся по Волге на всеобщее восстание против Москвы, черемиса – это от Ватикана, но царевич? Почему отец убивает сына – единственную надежду этой страны? Такое подстроить невозможно! Так, может быть, здесь рука сатаны?
Поляку стало страшно. Он долго шептал молитвы.
– Боже, вразуми, кому мы служим? Не может ли быть со мною как с Павлом, который гнал Тебя, Господи, но обратился? Что будет со мной, что будет с Польшей, если мы никак не можем разбить этих схизматов! Почему?
Он забылся сном, когда серенький рассвет зимнего утра засветил в слюдяное окошко. Часа через два ему постучали в дверь.
Наскоро умывшись, он поспешил к легату, принимаясь за обычные хлопоты: нужно было готовить мир польско-литовское вторжение захлебнулось. Нужно было готовить войну – на юге и на востоке. На смену католикам шли давние враги России – мусульмане.
Казаки стояли в Замоскворечье, напротив Китай-города, в тесно застроенном посаде. Разбитные и веселые стрельцы, те, что под Псков не ходили, а сторожили стены Москвы, промышляли всем, чем могли, в том числе и пускали на постой воинских людей. Поэтому в каждом дворе стояли три-четыре чужих коня, в доме спали вповалку. На лавках, на полатях, на полу, под овчинными тулупами храпели и архангельские, владимирские мужики, и донские казаки.
Ермак же поселился чуть дальше у своего кума -начальника городовой казачьей сотни. Было здесь то, что не вышло в его собственной судьбе – семья, где он оттаивал душой.
Просыпался Ермак рано и в тишине крохотной каморки, где всего и помещалась его постель да киот в углу у оконца, спокойно обдумывал предстоящий День. А обдумывать было что.
Воевода Хворостинин отослал его в Москву по приказу царевича. Ермак догадывался, к чему дело идет, и, оставив сотню своих донцов в Замоскворечье, сам спешно явился в Александровскую слободу.
Царевич Иван принял их в малом покое, где принимал воинских людей. Атаманы и командиры татарских конников сидели на лавках и слушали, как черноглазый рослый, стройный и очень подвижный царевич говорит о войне, о том, как можно переломить судьбу и вырвать победу.
– Не стоять! Не стоять! – повторял он. – Неча за стены цепляться! Наступать! Изматывать набегами! Как стал у крепости, так завяз. – Он не сидел на месте, ходил, пристукивая серебряными подковками красных сафьяновых сапог.
– Чего он нас учит? – шепнул по-татарски Ермаку на ухо служилый татарин Аксак.– Мы всегда так воюем.
– Это он себя уговаривает!– также по-татарски ответил Ермак. А про себя подумал: «Не даст Царь войск для такой войны. Да и взять ему их неоткуда…»
– Беда на нас с трех сторон катит, – говорил царевич, и румянец играл у него на впалых щеках. – Стефан под Псковом завяз, теперь шведы напирать станут. Промеж себя они навряд ли договорятся. Каждый на свою силу надеется. И тут у нас война давно идет – отстоимся. На степи неспокойно. Крымцы да ногайцы шевелятся. Но и здесь мы, Бог даст, отмахаемся… А вот совсем новенькое: Сибирские Орды из-за Камня, что ни месяц – набеги творят. И метят они с этого боку на Москву идти. Потому и зашевелилась вся Волга. Не сегодня – завтра черемиса забунтует! Вот и будет нам вторая Казань! Там сейчас такое, что хоть обратно штурмом бери. Потому будет великая помощь от казаков, ежели они на Волгу ногайцев не допустят, крымцев не допустят…
Атаманы молчали, но каждый подумал про себя: «Станут казаки ногайцев да крымцев разорять по цареву слову, а случись замириться Царю с ногайцами или с крымцами, тех же казаков ворами обзовут да и казнят без милости. Не первый раз так».
Ермак все, о чем царевич говорил, знал – да и атаманы с татарскими начальниками обо всем сто раз переговорили. Потому слушал вполслуха. Смотрел, как горбоносый смуглый царевич на отца своего похож, на Ивана. Вот таким Иван был под Казанью, когда казалось – ничто более Русь сокрушить не сможет. А вон как вышло – кругом война!
За день до встречи у царевича видел Ермак и Царя Ивана. И едва узнал его. От прежнего красавца ничего не осталось. Старец, истинно старец, – а ведь они с Ермаком почти ровесники. Царь был страшен: словно усохшая, голова его помещалась на широких плечах, будто шеи вовсе не было; впалая грудь и косое брюхо, подпиравшее кафтан, будто нищий и богатей, будто старец мудрый и чревоугодник похабный, уживались в одном теле. И лицо Царя Ивана тоже будто из разных частей составлено: осанисто, гордо нес Царь седую расчесанную бороду, но загибалась она как нос у сапога -кверху, выдавая половецкую кровь. Надменно поджаты тонкие губы, но серые глаза бегали как мыши, обшаривали каждого встречного. И прятался в этих глазах – может, страх, а может – и безумие.
Был Царь в подряснике, с тяжелым наперсным крестом на груди, но на плечах у него посверкивал золотым шитьем кафтан, да мела полы соболья шуба.
Пристукивая посохом с окованным наконечником, чинно прошел Царь мимо Ермака, а как стал на ступени подыматься, тут его под руки крепкие слуги подхватили: видать, сил у Царя было немного. А может, чванился перед степняками…
«Не даст Иван царевичу войск!» подумалось тогда Ермаку. Так и сказал он атаманам и служилым татарам, когда после угощения в царских покоях, поехали они из Александровской слободы в Москву. И воинские люди все с Ермаком согласились. «Не даст! За себя Царь боится. Царевич горяч. Сегодня на Батория пойдет, а завтра?» Промолчали воинские люди, были они все немолоды, всего насмотрелись, и трудно их было удивить и распрей внутри семьи, и любой изменой.
Но ахнули и они, когда пополз слух: – «Царь сына убил!» Говорить прямо никто не говорил, а шептались – все!
Притихли воинские люди, перестали вместе в кружалах собираться. Потянулись обратно в полки ко Пскову, от греха подальше, под защиту верных сотен. Ермак медлил, словно ждал чего-то. Да и не хотелось ему из единственного дома, где хорошо ему, в стынь и грязь войны ехать. Годы начинали себя оказывать. Не тем, что давили на плечи и гнули спину, – нет, как был смолоду атаман богатырем, так на пятом десятке еще крепче сделался. И как смолоду ничем не болел, и любая рана на нем, как на собаке, заживала, так и нынче; но стало ему многое в жизни скучно. Не тешили ни охота, ни победа. А хотелось тепла да покоя, как здесь, на Москве, где прижились степные воины – казаки на городовой службе.
остеприимный дом просыпался. Застучал пестик в ступке – хозяйка толкла зерно для каши, мычали в хлеву коровы. На женской половине серебряными колокольчиками залились, потешаясь над чем-то, хозяйские дочки, прикрикнула на них мать…
Затопали за окном кони казак повел их на водопой к проруби в Москве-реке.
«Ах, лентяй! подумал Ермак. – Застудит коней. Вот ужо накостыляю я те по-шее».
Тихо скрипнула дверь, и под осторожными шагами чуть отозвалась половица. Сквозь полуприкрытые веки Ермак увидел, как хозяйский внук Якимка в рубашонке и валенках вошел и смотрит на него.
– Ты спишь? – спросил Якимка шепотом. -А? – Не получив ответа, подошел поближе, переспросил: – Ты спишь?
И уж так ему хотелось, чтобы Ермак не спал, что не утерпел и тоненьким ледяным пальчиком сдвинул казаку веко и спросил в самый глаз:
– Спишь?
– Ааааммм! – – Ермак схватил его, визжащего от восторга, усадил себе на грудь.
– Как спал-ночевал? Чего во сне видал?
– Ничего!
– А через чего ты во сне плакал? Я слыхал!
– Кабутто ты от меня на лодке уплыл…
– Куда уплыл?
– Не знаю. Кудай-то… В лес. А я не хотел.
– А плакать-то чего? Ну уплыл, а потом вернулся…
И вдруг мальчонка, обхватив голову Ермака, прижался к ней воробьиным своим тельцем и, всхлипнув, прошептал:
– Не вернулся! Не вернулся…
– Ты что, ты что… – успокаивал его Ермак. –Это ж сон. Куды я от тебя? Ну, хочешь сказку скажу?
– Угу… Про гусика, – все еще всхлипывая и дергая плечиками, попросил мальчишка.
– Да я уж сто раз ее сказывал! Может, другую?
– Не. Про гусика.
– Ну, про гусика, так про гусика… – Ермак подолом рубашонки вытер крестнику нос. – Слушай. Жили-были в старой Рязани муж с женою. Жили-крестьянствовали. Бога слушались, вот и было у них все тишком да порядком. Только не было у них детушек… Навроде как у меня вот…
– Счас опять заплачу, – пригрозил мальчонка, ныряя под тулуп и забиваясь Ермаку под мышку.
– Раз пошли они по грибы да нашли в болоте гусеночка, в ножку левую стрелою подбитого. Видать, гуляла охота княжеская, стреляла гусей-лебедей число бессчетное, вот и этого не помиловала. Взяли его крестьяне, домой принесли. Стрелу каленую вынули, косточку ему вправили. Лукошко теплым пухом выстелили, положили туда гусеночка да на печку поставили: «Спи, гусеночек, отдыхай!» Накрошили ему хлебца с молоком, а сами в поле работать ушли. Ворочаются поздно вечером, а в доме все прибрано. Вода из колодца нанесена, конюшня да хлев вычищены, молоко надоено, свиньи да птица накормлены. И стало так каждый день.
Утром крестьяне покормят гусеночка хроменького, на работу пойдут, а воротятся вечером – в избе все слажено и ужин на столе горячий стоит.
«Кто же нам все это делает?»
– Гусик.
– Сам ты гусик!– притиснул его к боку Ермак. – Ты слушай дале. Вот раз взяли они да и вернулись с поля раньше положенного, ко двору своему подкралися. Видят, по двору мальчик ходит в архалуке стеганом, в шароварах да шапке мерлушковой, на левую ножку прихрамывает, а сам поет песенки да по хозяйству все ловко делает. К нему пес хозяйский ластится, к нему кот на руки просится, за ним птица вся табунком бежит, да корова из коровника зовет-мычит.
Выскочили крестьяне, обрадовались, обнимают мальчика.
«Да откуда же ты взялся?» – спрашивают.
– А я, – заговорил-заторопился казачонок, прикрывая Ермаку рот ладошками, – Я – гусенок хроменький, вы меня на болоте от смерти спасли. Я за добро вам плачу, с вами жить хочу, как с отцом да с матерью. Только не трожьте моих перышек, что я в лукошке на печи оставил.
– Вишь, как ты сам ловко сказываешь, – похвалил атаман.
– Дальше давай! Дальше! – от нетерпения забил коленками Ермака в бок Якимка.
– Вот зажили они миром да порядком. Хозяйка мальчику не нарадуется, хозяин мальчиком не нахвалится. Они в поле пахать уйдут, мать блины печет, дожидается. Они вечером воротятся – мать их кормит, любуется.
«Расти, наш гусенок хроменький».
– А как стало ближе к осени, – сказал Якимка, – стал гусенок на небо поглядывать. Вот летит стая гусей-лебедей. Увидала его, закружила над избой. Давай лети и меня спрашивай.
Ермак сел на постели замахал руками-крыльями:
– Эй! Не ты ли гусенок хроменький? Летим с нами в родные места!
– Нет! – сказал Якимка. – Ты по-правдошному, по-лебединому спрашивай.
Ермак повторил по-кыпчакски.
– Нет! – закричал Якимка, путая кыпчакские и русские слова. – Мне и тут хорошо! Хоть и манит меня на родину, у меня тут отец с матерью, как я брошу их, они – старенькие.
Крестьяне эти речи слушают душа у них замирает. Ну, как улетит их сыночек названый, их гусенок хроменький? Вот взяли они, не подумавши, да и сожгли лукошко с перышками, чтоб гусеночек их не покинул. Как увидел мальчик заплакал горько. Ну, – сказал Ермак, – говори за гусика…
– Сам говори! – сказал Якимка, расстроено..
– Что ж вы, отец с матерью, понаделали! Как хранились тут мои перышки, так была тут моя родина, а теперь унесет меня ветер северный во донскую степь на реку Хопер, не видать вам меня на веки вечные! Налетели ветер-пурга северная, подхватили гусеночка да и унесли неведомо куда. Якимка молчал, подозрительно сопя.
– Ты чего притих? Много ли, мало время минуло, а совсем крестьяне состарились. Не могут работать ни в поле, ни по дому, а кормить их задаром некому.
Взял их князь да и продал половцам, променял на линялого сокола. Повели полон из рязанских мест во широкую степь незнаемую. Далеко она, широко лежит, в ней травы растут шелковые, в ней реки медовые, в омутах рыбы бесчисленно, в табунах коней несчитано…
– А мы туда поедем? – спросил Якимка.
– А как же! – сказал атаман. – Это наша земля, наша родина-матушка, как же мы не поедем. Хошь через сто лет, а возвернемся! Это наши места. Это мы счас мотаемся Бог знает где, а возвернемся! Вот прошли они горы Еланские, заступили в степь ковыльную. Как лебяжий пух ковыль стелется, под степным ветерком наклоняется. Привели их во Червленый Яр на реку Хопер. Старики стоят, озираются. «Не про эти ли места нам сынок сказывал?»
– Про эти! -.-; сказал Якимка.
– Вдруг толпа раздалась в стороны…
Якимка вскочил, сел верхом Ермаку на грудь, стал сам сказывать:
– Едет хан молодой на лихом скакуне. На нем шапка трухменка высокая с голубым тумаком – в леву сторону, на нем синий чекмень с голубым кушаком, за спиной башлык пуховый будто крылья лебединые. Вот он спрыгнул с коня молодецкого, избоченясь прошел перед пленниками, а на левую ногу прихрамывает; а глядит хан на них ласково, а глаза у него слезами полны.
– А не наш ли ты гусенок хроменький?
Обнял хан тут отца с матерью, на руках понес их на широкий двор. Там детишки навстречу выскочили: «Ты кого ведешь, батюшка, не рязанские ли то рабы-пленники?» – – «Не рабы это и не пленники, это ваши дедушка с бабушкой! Они меня спасли-выходили, когда был гусенком хроменьким! Вы омойте их, накормите их, нарядите их в одежды лучшие, посадите в красном углу и во всем их слушайтесь. Они станут вам сказки сказывать да закону учить православному»
Ермак подхватил Якимку на руки и подбросил взвигнувшего от удовольствия мальчонку и раз, и два, и три…
– Этто чего тут такое! – просунул голову в дверь его дед Алим. – Ты что гостю покоя не даешь! А ну, беги к мамке…
– Да что ты? Мы тут дружбу водим, а ты, дед, ругаешься… – сказал, подымаясь, Ермак.
Мальчонку, как ветром, сдуло.
– Эх!– сказал, усаживаясь к Ермаку на постель, Алим. – Жениться тебе надоть… Ишо своих бы нарожал.
– Куды! Я уж седой весь.
– Седина бобра не портит. Вон Царь-то наш постарее табе будить, а ничаво, царевича спородил… Дмитрия-то.
– Одного-то спородил, а другого-то посохом угодил…
– Ииии, – сказал Алим. – Страх! – Алим сидел, как приехал, не отстегнув сабли, не сняв тегиляя.
– С чем приехал-то? – спросил Ермак, подымаясь. Алим слил ему умыться над тазом, подождал, пока атаман расчешет гребнем густые седеющие кудри.
– Да вот уж приехал, – сказал он, наконец. -Нонь был я в Разрядном приказе, стрел дьяка знакомого. Сказывает, навроде на тебя указ есть – в Пермский городок воеводой идти.
– Колокол льют! – не поверил Ермак. – Еще скажешь, воеводой! Когда это казаки воеводами делались? Казак он и есть казак – – меня Царь назначить не может. Я ему не присягал!
– Ну, как бы воеводой! – сказал Алим, – Казаками командовать, супротив сибирских людишек.
– Давай-ко не так скоро сказывай! – Ермак уселся против кума. – Откуда голос?
– Стало быть, стрел я дьяка. То да се… Он и гутарит – война, мол, кончается. Навроде Баторий от Пскова уйти собирается.
– Вона! – – сказал Ермак. – Так наступать скореича надоть!
– Кем? Войско все в художестве. Да и крымцы на границу выходят. Которые против литвы стояли, уже на юг потянулись. На Волгу.
– Эта новость невелика, – улыбнулся Ермак. – Я-то причем?
– Дак вот навроде Строгановы выпросили цареву грамоту, чтобы казаков и прочих воинских людей к себе на службу звать, ради обороны от тамошних басурманов…
– Ну, а я-то как в воеводы?
– Сказывают, у Царя про тебя спрос. Дескать, кто к царевичу ездил? Сам ли, или по вызову? И всех, кто по вызову приезжал, по дальним крепостям распихивают. Государь навроде в Пермь тебя ладит.
– Ну вот! – сказал Ермак. – Другой голос. А то воеводой!
– А кем?
– Поди знай! На Руси нонече в славе, а завтра в колодке…
– Да полно тебе жалиться! Ты в служилом разряде. Верно говорил дьяк, про тебя Государь спрашивал. Он тебя помнит…
– Ну, помнит, и слава Богу, – отгрворился атаманн, – а то лучшее, чтобы и позабыл… Сказано близь Царя, близь смерти…
Но и за завтраком, когда нес ко рту ложку с толоконной кашей да хозяйку похваливал, не мог отогнать тревожное предчувствие – не любил он, когда про него в царском терему спрашивали. Всегда это становилось предвестием беды или тяжкой службы.
– Эх! – сказал он Алиму, когда подали пирожки, – Сейчас бы в свои юрты на Дон. Жить бы, доживать, Богу молиться. Так ведь и там мира нет. А у меня сейчас казаков три сотни, как их там прокормишь? Там у меня табун небольшенький да две отары – маловато.
– Неужто чигов три сотни?.. Откуда их столько? – удивился Алим, омывая пальцы в чашке-полоскательнице и вытирая руки широким рушником.
– Да нет. Чигов-то десятка три. Но других родов казаки: боташевы, аксаковы, кумылги, буканы. С Червленого Яра.
– Погоди! – сказал Алии. – А разве ты не Сары Азман?
– Сары, да не Азман, а Чига! У тех кочевья на низу, а мы с Верхнего Дона. У нас юрт до Казарина-городка, дальше Букановский юрт, а Сары Азманы – лукоморцы, на самом низу, почти что у Азова…
Они долго считались родами, уточняли, где и какие земли принадлежали какому роду. Это было одно из любимых занятий вольных казаков, которые никак не хотели примириться с тем, что многих родов уже нет в степи, а имена многих – позабыты… И живут вчерашние степняки аж до Студеного моря, до Литвы болотной, до Днестра и Терека… Всех разметала Золотая Орда. Когда-то были и стада тучные, и табуны, и отары. И славянские князья за честь считали породниться со степными знатными родами. И сливались степняки и жители лесов в один народ – русский, но когда это было! Пришли монголы, все перемешали, перепутали… А уж как явился в степи Тамерлан, да загнал Тохтамыша-хана в Сибирь, да начал Узбек-хан басурманскую веру насильно степнякам насаждать – так и побежали они кто куда, бросив родные юрты, реки, степи и увалы.
Не стал Ермак говорить, что у него-то оставались родовые юрты, а вот у хозяина его, городового казака Алима, кроме родовой тамги и нет ничего. На месте кочевий его предков – засечная линия, через кою ни конному, ни пешему ходу нет. Половина родов, ислам принявши, к татарам в Крым ушла, половина – к московским князьям на службу подалась – как без хозяйства прокормишься? Только службой. Вот и получается: донской казак Алим, московского жительства, на городовой службе. Правда, потянула степь нынче своих сынов. Частенько слышит Ермак – белгородская орда на Хопер вернулась. Каргин род на Дон ушел. Да и московские казаки чуть-что – домой откочевать собираются. Только степь-то стала другой, не такой, как прежде, как старики сказывали. До прихода монголов была она домом и крепостью, никто туда сунуться не смел. А теперь – проезжая дорога, поле боя, нива войны… Трудно на этом поле укорениться, когда что ни год – враги со всех сторон налетают. Однако, и без родины, хоть бы какой, не может человек.
Помолясь Богу и позавтракав, пошел Ермак сам в Разрядный приказ, да и казаков проведать, что постоем в Замоскворечье стояли. Запоясавши короткий полушубок, привесив саблю, как положено служилому казаку, и сбив на бровь атаманскую шапку с тумаком и кистью, Ермак с двумя казаками вышел на ослепительно сиявшую морозным инеем и снегом московскую улицу.
Белый дым из сотен печных труб поднимался строго вверх в чистое голубое небо. Даже глухие заборы выше человеческого роста из черных бревен, припорошенные снегом, смотрелись весело и нарядно. Пестрыми жар-птицами проходили мимо сугробов чинные москвички в золоченых киках, высоких кокошниках, парчовых душегреях и шубейках. Зевали около разведенных на ночь рогаток сторожевые стрельцы. Далеко виднелись их красные, желтые или зеленые, в зависимости от полка, кафтаны. У Москвы-реки Ермака обогнал городовой казак в синем архалуке и шапке с алым тумаком. И хоть летел он на взмыленном коне и, судя по заиндевевшей шапке и сосулькам на усах, гнал издалека, своих увидел – приветственно поднял нагайку и, свистнув, помчался дальше.
Во всех церквах толпился народ, на папертях, несмотря на мороз, нищие гнусавили Лазаря, высовывая из тряпья ужасные культи.
Юродивый, гремя веригами, прыгал босиком и без порток, в одной посконной рубахе до колен, колотил ложкой по медному котлу, надетому вместо шапки, что-то выкрикивал внимательно слушавшей его невеликой толпе.
Толпился народ и в торговых рядах. Чем ближе к Кремлю, тем гуще. Сквозь толпу проталкивались крикливые разносчики, продававшие пироги, сбитень. Не видать было только ни скоморохов, ни петрушечников – пост.
– Вот Москва! – покрутил чубом ермаковский есаул. – День будний, а народищу! Быдто и не работает никто.
– Ты чо! – возразил второй казак. – Кака работа! Послезавтря – Рожжество.
– Работа работе – рознь, – сказал Ермак, – Кто работает – тому нонь роздых. А кто служит – тому роздыха нет, и труды его – по надобности.
– Да! – согласился есаул. – Война и в Светлое Христово Воскресение – война. Ее не остановишь!
– Эх! – вздохнул второй, – Как там наши во Пскове?! Как там Миша Черкашенин? Сказывают, он обет какой-то дал…
– Какой обет? – спросил Ермак.
– Да так… – замялся казак. – Станишники бают, дескать, было ему видение, мол, Иоанн Предтеча ему явился и сказал, что Псков падет, а Черкашенин, мол, обетовал взамен Пскова – голову свою…
– Кто это знать может, кому что попритчилось да во сне привиделось? – строго сказал Ермак, – Суесловы!
– Да нет, батя, – засуетился казак. – Черкашенин сам гутарил: мол, Псков отстоится в осаде, а я погибну. Мол, держитесь, казаки, – вы моею головою выкуплены…
– Эх! – крякнул Ермак. – То – бой! Чего людям не скажешь, чтобы дух поднять. Ну-ко, зайдем! Они завернули в ближайшую церковь. Храм был полон беременных женщин.
– Вона! – хмыкнул казак. – Откель их столько? Понаперлись!
– Нонеча Анастасия, ей и молятся! – сказала строгая старушка, – Она, матушка, в родах воспомогает.
– А ну-ко, ну-ко… Умели, бабочки, с горки кататься, умейте и саночки возить, – засмеялся казак и вдруг увидел лицо атамана.
Ермак побелел, будто мелом вымазанный. Странно сверкнули его черные глаза. Он прошел к выносной иконе и пал перед нею в земном поклоне. Казаки смущенно отошли к выходу. Они видели, как Ермак долго стоял на коленях, а потом поставил свечи на канун -на поминание усопших.
Поставили свечи и о здравии, о Мише Черкашенине и всех воинах Христовых – казаках, в боевых трудах пребывающих.
Дальше шли молча. Казаки боялись даже переговариваться. Впереди шел, глядя себе под ноги, как-то сразу постаревший атаман. У громадной избы Разрядного приказа он вдруг снял шапку и, оборотившись на купол Успенского собора, перекрестился:
– Вот как в один день припало… Неспроста это. Неспроста, – и нырнул в дверь.
Казаки протискались к стоявшим поблизости саням, присели на солому.
– Чегой-то он? – спросил казак, тот, что был помоложе.
– А хто знаить? – ответил односум. – Може, у него память сегодня какая-то совершается… Зря он, что ли, на помин поставил? Надо его родаков спросить. Мы-то ему не кровные. А в сотне человек с полста будуть его рода. Оне должны знать.
– Так они тебе и сказали! Они чуть что – бала-бала по-своему, я и не понимаю ничего. А ты разве не коренной казак?
– Коренной. Да я из городовых. У меня и дед, и прадед в Старой Ладоге да в Устюге служили, я на Дону отродясь не бывал. У меня и матушка из Устюга…
– Эх! – сказал казак постарше. – Я и сам-то уж не все понимаю по-нашему. А жалко. Говорят, второй язык – второй ум.
– Где на ем говорить-то? – сказал молодой. – И в Старом-то поле все давно по-русски говорят. Ты хоть одного казака видал, кто бы по-русски не говорил? Хоть он самый коренной-раскоренной!
– Эт верно, – охотно согласился казак постарше, – А ну-ко ты покарауль маленько, а я прикемарю. Чей-то на сон тянеть. На вот, от скуки, – он дал молодому кусок пирога с кашей, – пожуй.
– Во! Откель это?
– Да у стрельчихи, у вдовы, постоем стоим, она меня привечает… – задремывая, сказал есаул.
– То-то тя на сон и клонит, – засмеялся молодой, впиваясь крепкими зубами в пирог.
– Жалко мне ее. Хорошая она. Судьбы – талана, вишь, ты, нет… – И старший всхрапнул. А младший, не торопясь, откусывая пирог, принялся разглядывать народ, сновавший у приказных изб.
Двери приказов то и дело хлопали, оттуда вместе с клубами пара выскакивали дьяки в длиннополых кафтанах, с гусиными перьями, заткнутыми за уши и просто воткнутыми в волосы, измазанные чернилами. Тащили свернутые в трубки какие-то бумаги. Проехал боярин, торжественно колыхая брюхо на высокой луке дорогого седла. Вел коня зверовидный детина с бичом в руке. Проехал зарешеченный возок с опричниками на запятках. Оттуда выволокли кого-то в цепях, потащили в Разбойный приказ. У дверей одной из изб, запорошенные снегом, стояли на коленях крестьяне, держа на лбу развернутые свитки прошений. На них никто не обращал внимания, точно их, истуканами стоящих, и нет вовсе.
Тут же совершенно пропитый, с битой рожей и здоровенным синяком под глазом грамотей писал, оперев доску на спину просителю, прошения, макая перо куда-то под лохмотья, за пазуху, где на теле согревалась чернильница.
Проходили не по-русски одетые иностранцы, ради сугрева натянувшие на иноземное платье тулупы…
Казак начал уж было зевать со скуки. Пирог кончился, а завести переглядывания с какой-нибудь девкой или бабенкой было невозможно – не было около приказных изб ни одной женщины, но вдруг он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд.
Латинский поп в круглой шляпе, невзирая на мороз, рассматривал его.
«Вона! – подумал казак. – Еще сглазит али наворожит, антихрист…»
– Чего уставился! – спросил он, кладя руку на саблю.
Спавший есаул тут же сел на санях, и по тому, как ворохнул плечом, молодой понял, что вытряхнул из рукава в рукавицу нож.
Латинский поп сделал вид, что не понял или не расслышал, и неторопливо прошел мимо.
– Ты чо шумел! – спросил старший.
– Да вон энтот уставился, ишо сглазит либо порчу каку понапущает…
– Да ну тя! – сказал старший, заваливаясь уже всерьез на сено. – Порчу! Богу молись да за саблю держись – ничо и не пристанет.
– Куды он поперси? – спросил молодой.
– А че ж ты не спросил? – хмыкнул старший. -Эх, такой сон хороший испортил.
«Спросишь его, – подумал молодой. – Вот ужо в другой раз мне попадется, я его нагайкой порасспрошу». Он не мог объяснить, почему этот латинский поп вызвал в нем такую тревогу. Попытался вспомнить лицо попа – и не смог. «Бона! – подумал он с удивлением. – Безликий какой-то. Как оборотень».
– Чегой-то атаман не ворочается! Замерзнем тута, – проворчал он. Но старший только присвистнул носом в ответ, торопясь досмотреть сладкий сон.
Ермак вошел в огромные сени приказной избы и поморщился от густого запаха паленого сургуча и еще какого-то особого, приказного духа, который возникал, может быть, от холодного пота просителей, липких рук дьяков… Ермак считал этот запах запахом подлости. Ходить по приказам не любил. И гул тут стоял особый: монотонно бубнили писцы, скрипели перья. Что-то гундосил проситель, старый дьяк что-то кричал, рывшемуся в бумагах и пергаментных свитках, молодому…
«И голоса-то у них какие-то поганые, – подумал атаман, – будто перья не то двери скрипят. Вот тут-то они всякие ковы да каверзы и выдумывают…»