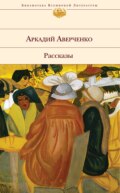Аркадий Аверченко
Подходцев и двое других
Глава 15.
Безоблачное небо.
Добрый Громов
Нижеследующий разговор произошел однажды вечером после хлопотливого трудового дня.
– Господа, – сказал Подходцев, пренебрежительно поглядывая на Клинкова и Громова, – умеете ли вы держать себя в обществе?
– Только один раз я не мог держать себя в обществе, – возразил Клинков, – и то это было Общество электрического освещения. Они мне подали счет дважды за одно и то же. Я и раскричался.
– А я себя держу в обществе так замечательно, что все окружающие застывают в немом изумлении, – улыбнулся тихо и ласково кроткий Громов.
– Ну, это тоже лишнее. Это уж слишком. Приковывать к себе общее внимание – тоже не рекомендуется. Одним словом – берите пример с меня.
– Собственно, в чем дело? – нетерпеливо спросил Клинков.
– Дело в том, что мы приглашены в один фешенебельный дом.
– Ну что ж – повращаемся, повращаемся, – самодовольно усмехнулся Клинков. – Надеюсь, будут и танцы?
– Нет, уж ты, пожалуйста, не танцуй, – искренно встревожился Громов. – У тебя есть дурная привычка на половине вальса бросать свою даму, засовывать большие пальцы рук в проймы жилета и начинать перед самым носом оторопевшей дамы подбрасывать ноги чуть не до потолка.
– Эх ты, деревня! Во всех шикарных кабачках Парижа так танцуют.
– Может быть. Но нас зовут в семейный дом.
– Большая важность. А у Синягиных я разве не танцевал перед хозяйкой с большим успехом?
– А чем кончилось? Отвели в уголок и отказали от дому.
– Тоже и дом у них: сырой, одноэтажный, чуть не на краю города. А куда нас теперь приглашают?
– К Троицыным.
– Удивляюсь я, – пожал плечами Громов, – зачем все эти люди нас приглашают: придем, нашумим, съедим и выпьем все, что есть под рукой, уязвим гостей и уйдем, оставляя за спиной мерзость запустения.
– Я думаю, вас приглашают ради меня, – заметил Клинков, пыхтя от важности.
– Возможно, – согласился Подходцев, – как болгарина с обезьяной – пускают во двор ради обезьяны. Итак, завтра в девять отсюда, все втроем.
Как-то выходило так, что все трое держались вместе: Громов не мог минутки пробыть без Подходцева, Клинков терся около Громова с вечной мыслью уколоть его, подцепить на что-нибудь, а Подходцев держался около Клинкова с целью удержать этого разнузданного толстяка от истерического желания пуститься в нескромный пляс.
– Знаешь, – заметил Клинков, оглядывая гостей. – Мне очень нравится та блондинка в черном. Я, признаться, за ней уже приударил.
– Вот тебе раз, – опечалился Подходцев. – Как раз она и мне нравится. Отступись, голубчик.
– Что даешь? – хладнокровно спросил корыстолюбивый Клинков.
– Рубль хочешь?
– Рубль и коврик, что лежит около твоей кровати.
– Хорошо. Только ты познакомь меня с ней.
– Сколько угодно! Пойдем…
Клинков подтащил Подходцева к пышной блондинке, даже не подозревавшей, что она только что была продана, и сказал самым светским тоном:
– А я, Анна Моисеевна, хочу познакомить вас с человеком, которого вы буквально ошеломили. Замечательная личность. Имеет у женщин шумный успех, но до сих пор ни на кого не обращал внимания. Вы – первая. Понимаете? Кто он?.. Вы, вероятно, слышали – это Подходцев. Известный Подходцев. Человек, полный тайного обаяния. Будьте счастливы, детишки.
И, заработав честно свой рубль, Клинков снова отошел к Громову.
– Ты что повесил нос, Громушка? Может, и тебе какая-нибудь девушка нравится? Могу уступить. Имеются на разные цены.
– Не трещи. Послушай: видишь ты ту барышню, что сидит одиноко в углу?
Громов указал на девушку лет 35, с длинным носом, маленькими, ушедшими под рыжие брови глазками и редкими волосами, взбитыми над узким лбом, как пакля, вылезшая из щели старого тюфяка.
– Вижу. Это та, которая сложила костлявые руки на острых коленях? Я боюсь, как бы колено не проткнуло ее руки. А почему ты обратил на нее внимание?
– Ты знаешь: мне ее так жалко, что плакать хочется. Я уже полчаса наблюдаю за ней. Сидит тридцатипятилетняя, не знавшая мужчины, некрасивая, одинокая, все ее обходят, никому она не нужна и, кроме всего, обязана делать вид, что ей весело. Для этого она изредка смотрит в потолок, оглядывает стены, а когда близорукий танцор сослепу налетит на нее, она делает вид, что ее вывели из глубокой задумчивости, но что она не прочь пошалить, потанцевать. Однако близорукий кавалер в ужасе умчался, а она снова погружается в деланную рассеянность. Какая мелкая, глупая трагедия!
– А ты пойди, поплачь у нее на груди, – посоветовал Клинков. – Жестко, но добродетель всегда жестка…
Не слушая его, Громов поник головой и прошептал:
– Ей, видно, очень плохо живется. Как ты думаешь – целовал ее кто-нибудь?
– Слепой… и то едва ли. Ведь у них, говорят, очень развито осязание…
– Клинков, но ведь это ужас! Не испытать никогда поцелуя мужских губ, трепета мужской страсти на своей груди!..
– А ты вот такой добрый: взял бы да и поцеловал ее. Вот-то рада будет!
Громов смущенно усмехнулся.
– А ты знаешь: я только что думал об этом. Отчего девушке не доставить хоть минутку удовольствия. Потом вспоминать будет поди всю жизнь… Ведь другой-то раз едва ли это случится.
Клинков взглянул на Громова с почтительным удивлением:
– Ты, я вижу, совсем святой человек! Экие мысли приходят тебе в голову…
– Ну, ты только посмотри на нее: какая же она несчастная.
– Да, вид у нее дождливый. Пожалуй, осчастливь ее – только сейчас же беги ко мне. Я тебя спрячу.
Если бы Клинков обрушился на Громова, высмеял его, Громов, пожалуй, оставил бы свое странное намерение без исполнения. Но лукавому, проказливому Клинкову самому было интересно посмотреть, что выйдет из этой филантропической затеи.
– Знаешь: пригласи ее в ту комнату посмотреть картины – комната пуста, а я у дверей постерегу.
И, как Мефистофель, он подтолкнул добряка Громова под локоть.
Глава 16.
Небо хмурится.
Буря.
Громов в опасности
– Что это вы тут сидите в одиночестве? – раздался над пыльной поникшей девицей музыкальный голос Громова.
Девица вспыхнула и оживилась.
– Так, знаете. Я люблю одиночество.
– Одиночество развивает меланхолию. А молодая хорошенькая девушка не должна быть меланхоличной.
– Удивительно, – кокетливо поежилась барышня. – Все вы, мужчины, говорите одно и то же.
– Но ведь мужчины же не виноваты, что вы хороши. Миллионы людей говорят, что солнце прекрасно. Разве они надоели солнцу своими восторгами?
– Куда вы сейчас спешили? – зарделась барышня.
– В ту комнату. Там висят хорошие картины. Хотите посмотреть?
– Но там, кажется, никого нет!
– А вы боитесь меня?
– О, я ведь знаю вас, мужчин… Хотя, впрочем, вы кажетесь мне порядочным человеком. Пойдемте.
Она встала и уцепилась рукой за локоть Громова с такой энергией, с какой утопающий среди открытого моря хватается костенеющими руками за обломок мачты.
– Вот вам картины, – благодушно указал Громов. – Видите, какие.
– Да, хорошие, – подтвердила барышня.
– Если бы я был художник, я написал бы с вас картину.
– Что же вам так во мне нравится? – спросила барышня, поправляя дрожащей рукой вылезшую из невидимого тюфяка паклю на голове.
– Какие волосы! – дрожащим от страсти голосом прошептал добрый до самоотречения Громов. – Ваши губы… О, эти ваши губы! Я хотел бы крепко-крепко прильнуть к ним… Так, чтобы дух захватило. О, ваши розовые губки!..
– Вы не сделаете этого, – пролепетала барышня, закрывая лицо руками. – Это было бы так ужасно!..
– Я не сделаю? О, плохо же вы меня знаете! Страсть клокочет во мне… Я…
Он безо всякого усилия оторвал от лица руки барышни, запрокинул ее голову и – действительно впился своими горячими красными губами в ее бледные увядшие губы.
– Что вы делаете, – прошептала барышня, обвивая руками шею Громова. – Что ты делаешь, мой дорогой… как тебя зовут?..
– Васей.
– …дорогой Вася… Разве можно позволять себе это сейчас? Потом, после свадьбы… Когда мы останемся вдвоем.
Громов вдруг обмяк, обвис в цепких объятиях, как мешок, из которого высыпался овес.
– Свадь… ба? Какая свадьба?
– Наша же, глупенький. Имей в виду, что до свадьбы я позволю тебе целовать только кончики моих пальцев…
– По… чему свадьба?! Я не хочу…
Девица вдруг откинулась назад и с пылающим лицом воскликнула тоном разгневанной королевы:
– Милостивый государь! Я – девушка… И вы меня целовали. Вы мне говорили вещи, которые можно говорить только будущей жене!!
Колени Громова сделались мягкими, будто были набиты ватой.
– Я… больше не буду… Простите, если я что-нибудь лишнее… позволил.
Девица толкнула его на диван, сама уселась рядом и, прижав свое пылающее лицо к его щеке, миролюбиво сказала:
– Лишнее? Почему лишнее? Если человек любит – ничего ни в чем нет лишнего…
С глазами, устремленными в одну точку, застыл на месте неопытный благотворитель Громов. А она терлась щекой о его плечо и шептала на ухо:
– Ах, какое у нас будет гнездышко. Я уже сейчас вижу его… Прямо из передней – столовая. Налево твоя комната. Направо гостиная. Ты голубой цвет любишь? Голубая. Ты знаешь?.. Я думаю обойтись одной кухаркой: стирать пыль или какие-нибудь другие мелочи я буду делать сама. Правда? О, я не разорю тебя, не бойся.
И нежным поцелуем в потускневший, закатившийся, как у недорезанной курицы, громовский глаз она закрепила это заманчивое обещание…
Глава 17.
Шторм.
Громов идет ко дну
Лицо Клинкова, когда он подошел к выскочившему из комнаты Громову, сияло весельем и лукавством.
– Как ты думаешь, Подходцев заплатит мне рубль за проданную блондин… Боже, что с тобой такое?
– Она… там… – утирая мокрый лоб, простонал Громов, – женится на мне… Уже… почти женилась… Клинков – что же это такое? Есть же ведь полиция, суд, – могут же они за меня заступиться. Любишь, говорит, голубой цвет – гостиная будет голубая, не любишь – будет красная…
– Милый… Громов! Опомнись. Что она там с тобой сделала? Ты поцеловал ее?
– Ну, да. А она…
За их спиной раздался веселый голос:
– Где он тут, этот ловелас, этот покоритель сердец?! А! Вы тут, шалунишка. Здравствуй, Вася. Очень приятно познакомиться. Сестра мне все рассказала. И как это все у них быстро… Ну, поздравляю. Она хорошая баба, без штук. А я вам даже столовый буфет подарю – у меня есть очень хороший буфет.
– Что вам нужно, милостивый государь? – сурово спросил Клинков.
– Мне? Да вот обниму только шурина, поцелую да и пойду себе. Много ли мне надо.
Он схватил Громова в объятия, скомкал его, как тряпку, лизнул где-то между глазом и ухом, опустил на пол и понесся дальше с сияющим лицом.
А в углу громовская барышня, окруженная кольцом гостей, что-то оживленно и радостно рассказывала.
Бледный, с трясущейся нижней губой вылетел из этого кольца Подходцев и, скользнув к прятавшимся за портьерой Громову и Клинкову, быстро сказал:
– Клинков! Уводи Громова во что бы то ни стало! Можешь даже опрокинуть кого-нибудь, кто станет на дороге. А я буду в арьергарде задерживать гостей. Бегите через спальню. Вы куда, молодой человек? Что? Поздравить? Осади назад, мерзавец, а не то я тебе сломаю позвонки!
Клинков схватил Громова за руку и в то время как Подходцев широкой грудью сдерживал напор ликующих гостей, повлек испуганного жениха к выходу через спальню.
Они уже были почти в безопасности, как вдруг из-за дивана вынырнул невидимый дотоле старик с сивым лицом, схватил маленького Громова за шею и, как орел когтит ягненка, повлек Громова за собой. Клинков ринулся за ними, но нахлынувшая толпа торжествующих гостей отделила его от похищенного Громова…
Молча, в бессильной ярости стояли плечо к плечу Клинков и Подходцев и из-за спины гостей, остолбенелые, могли любоваться на такую сцену: сивый старик держал Громова под руку, по другую сторону сивого старика стояла барышня с паклей на голове и сивый старик растроганным голосом говорил такое:
– Господа! Все здесь, включая и хозяина дома, – наши друзья и знакомые!.. Так порадуйтесь же вместе с нами на счастье этих двух дорогих моему сердцу сердец. Господин Громов сделал нынче моей дочери предложение, и я предлагаю выпить за их здоровье и счастье. От имени Громова (не правда ли, Вася?) объявляю всем, что кто откажется приехать на бракосочетание – всех трех нас кровно обидит… Ура!
Громов отыскал глазами лица двух своих друзей и кротко, печально им улыбнулся: так улыбались христианские мученики, вытолкнутые в дверь на арену цирка, перед пастью тигра…
В глубоком отчаянии, пошатываясь, вышли оба друга в коридор, не в силах будучи вытерпеть этого зрелища.
– Клинков! – простонал Подходцев. – Ведь это что же?!!! Катастрофа?
И сердце Клинкова подсказало ему единственно возможное утешение:
– Ничего, Подходцев. Она уже старая; может быть, скоро умрет.
А из зала неслись крики «ура» ликующих от неизвестной причины гостей и стучали бокалы, как комья земли, осыпавшиеся на отверстую могилу кроткого, доброго Громова.
На улице светало. Было сыро. Было холодно.
Глава 18.
Похороны Громова.
Семейное воркование
Читателями уже, вероятно, замечено, что автор по складу своего характера с большим удовольствием обращает взор свой на яркие, солнечные стороны жизни, избегая теневых печальных сторон.
Именно поэтому история женитьбы Громова освещена только вскользь – до того это было грустное, мрачное событие…
На бракосочетание беднягу вели, как на казнь, и сходство это еще усугублялось тем надежным зловещим эскортом, которым был окружен жених: по бокам сивый старик – отец невесты – и развязный брат, сзади – тетка, говорившая таким густым басом, что даже бесстрашный Подходцев поглядывал на нее с некоторым уважением…
Свадебный пир больше напоминал погребальную трапезу, жених сидел около невесты, как придавленный дубовым бревном, а Клинков и Подходцев, молча, вливали в себя вино непрерывной струей, но не пьянели…
На средине пира Клинков встал и произнес двусмысленный тост, пожелав невесте долголетия:
– Дай Бог, – дрожащим от искренних слез голосом возгласил он, – чтобы вы, дорогая Евдокия Антоновна, прожили много-много лет, так… года три-четыре.
– Значит, вы хотите, – мрачно возразил развязный брат, – чтобы моя сестра умерла через три года?
– О, дорогой Павел Антонович, – с готовностью ответил Клинков, – я ведь основываюсь на возрасте.
Чтобы замять этот разговор, кто-то из гостей поднял бокал и крикнул:
– Горько!
– А еще бы! – подхватил угрюмый Подходцев. – Правильно сказано, многоуважаемый Семен Семеныч! Еще бы не горько.
– Я не Семен Семеныч, а Василий Власич, – поправил аккуратный гость.
– Что вы говорите! Никогда бы не сказал по первому впечатлению! Итак, господа, – горько! Очень горько!
– Поцелуй жениха, – подсказал невесте Василий Власич.
Подходцев прорычал:
– Так ему и надо – не женись!
Поднялся шум, крик, чем Подходцев и Клинков, раздраженные, со слезами бессильного бешенства на глазах, и воспользовались, чтобы скрыться, а родственники еще плотнее обсели бедного кроткого Громова, – так что он, затертый ими, как бриг северными льдами, накренился на бок и тихо примерз к своей съеденной молью невесте.
Прошло три дня со времени этого тяжкого бракосочетания… Все это время унылый муж бродил по комнатам, насвистывал мелодичные грустные мотивы, хватался за дюжину поочередно начатых книг и даже «прижимался горячим лбом к холодному оконному стеклу», что по терминологии плохих беллетристов является наивысшим признаком скверного душевного состояния.
Вечером третьего дня Громов вышел в переднюю и стал искать свою шляпу.
Сзади послышалось воркование жены:
– Куда ты? Куда ты, моя куколка?
– К товарищам пойду.
– Какие там еще товарищи? Какие такие еще товарищи?
– Разве вы не знаете их, Евдокия Антоновна? Мои друзья. Клинков и Подходцев.
– Что-о? Идти к этим пьяницам и пошлякам, которые позволяли себе говорить обо мне такие гадости?!
Громов поднял на нее кроткие, молящие голубые глаза:
– Я просил бы вас, дорогой друг Евдокия Антоновна, не обижать моих товарищей. Мне это очень больно…
– Подумаешь, нежности какие! Две подозрительных личности, без всякого налета аристократизма – да я же еще должна молчать… Не пущу я тебя к ним!
Голос Громова сделался еще тише, еще музыкальнее:
– Очень прошу вас, не удерживайте меня. Мне очень нужно.
– Зачем?! Пьянствовать?
И совсем тихо, будто проглатывая что-то жесткое, пролепетал Громов:
– В наших отношениях это было не главное…
– А что же, что было главное? Что они издевались над тобой да жили на твой счет – это главное?
Голубые, сияющие добротой глаза Громова как-то потемнели, сузились. Он сделал усилие, проглотил что-то жесткое, царапавшее глотку, и вдруг – бешеный звериный рев, как гром небесный, исторгся из груди его:
– А-а, рр-р-р!!! Заткни глотку, старуха, или я тебе заткну ее раз навсегда этим зонтиком!! Голову отгрызу тебе зубами, если еще раз пикнешь что-нибудь о Клинкове и Подходцеве!! Поняла?
У Громова было такое лицо, скрюченные руки его с такой экспрессией протянулись к горлу Евдокии Антоновны, что она, бледная, в предсмертной тоске, тихо попятилась к вешалке и забилась там между пальто и накидками.
Молчали оба долго.
Потом она, выглядывая из-за какой-то ротонды, прохрипела тихо и подавленно:
– С ума ты сошел, что ли?
– Еще нет! Скоро сойду, вероятно… Ты! Ты, как ведьма, вскочила на меня, оседлала, дала пинка, и я побежал, подстегиваемый твоим сивым старикашкой-отцом и каторжным братом… Что ж… (он криво улыбнулся) я побегу… Я уже человек погибший… Но если ваши нечестивые уста скажут хоть слово о Подходцеве и Клинкове – я тебя сброшу с себя, а твоего старичка и братца исковеркаю, как пустую коробку из-под спичек. Поняла?
– Ты… нас… хочешь… убить? – пролепетала Евдокия Антоновна трясущимися губами.
Но Громов был уже спокоен, как летняя зеркальная вода на реке. Глаза его сияли по-прежнему, а тихая улыбка застыла, на пухлых губах.
Он почистил рукавом шляпу и благодушно сказал:
– Итак, значит, дорогая Евдокия Антоновна, я пойду к Подходцеву и Клинкову и вернусь поздно вечером. К ужину меня не ждите.
Она вышла из-за вешалки и, цепляясь за его рукав, пролепетала:
– Скажи… ты часто так… будешь уходить?
Глубокая гнетущая печаль покрыла темным крылом лицо Громова.
– О, нет… Это, вероятно, последний раз. Я для них человек конченый – для чего я им? Я бы и сейчас не пошел, если бы Клинков не был сегодня именинником.
Он грустно улыбнулся.
– Каждый год он добросовестно об этом забывал, и каждый год я ему напоминал об этом… Напомню в последний раз.
И через минуту его легкие шаги и печальный свист послышались уже внизу лестницы.
Евдокия Антоновна долго стояла у вешалки, сжав голову руками, будто сдерживая вылезшую из невидимого тюфяка паклю бесцветных волос, и о чем-то напряженно, мучительно думала…
Глава 19.
Клинкову угрожает опасность
Клинков и Подходцев занимали в гостинице большой угловой номер с двумя кроватями. Квартиру, в которой жили все трое, сейчас же после свадьбы Громова оставили, мотивируя это тем, что в ней «трупиком пахнет».
Причина была несколько иная: просто каждый угол, каждая вещь напоминала о безвозвратно потерянном друге, и эти воспоминания давили обоих друзей, дышали прямо в лицо могильным запахом.
В новой обстановке дышалось легче.
Клинков, дождавшись сумерек, затопил камин и уселся перед ним в кресле, приняв позу самого безнадежного отчаяния. Подходцев, вытянувшись во весь свой длинный рост, лежал на диване.
Беседа, конечно, шла о Громове.
– Но ведь может же он ее бросить? – глядя застывшим взором на красные уголья, пробормотал Клинков.
– Не бросит, – отвечал Подходцев.
– Ради нас даже?
– Не бросит.
– Однако ты же вот разошелся с женой.
– Я – дело другое. А его эта трясина засосет… медленно, но верно. Такой уж он человек.
– Такое у меня настроение, – прошептал Клинков, – что хочется биться головой об стенку.
– Бедная, – вздохнул Подходцев.
– Кто?!
– Стенка.
– Ты всегда так плоско остришь?
– Только для тебя. Кесарево кесарю, как говорил Громов.
– Громовские шутки были во сто раз умнее.
Из полураскрытых по случаю жары дверей послышался голос:
– Раньше вы мне таких приятных вещей не говорили.
– Громушка, милый!! Пришел! Вспомнил о нас?!
– Можете же себе представить, как я вас люблю, если даже радости медового месяца не удержали меня около обожаемой жены.
И столько тоски слышалось в этой легкомысленной фразе, что сердца обоих друзей болезненно сжались.
– А жена твоя, как… – стараясь быть светским, спросил неуклюжий Клинков. – Здорова? Хорошо себя чувствует?
Громов отвечал самым серьезным тоном:
– Благодарствуйте, недурно. Кланялась вам. Может быть, навестите нас?
– Почтем за честь, – вежливо отвечал Подходцев. – Да некогда все, дела, знаете…
– Скажите! А вы чем сейчас заняты?
– Открыл богатое месторождение меди.
– Что вы говорите? Где? Далеко?
– Совсем близко. В голове у Клинкова.
– И много добываешь?
– Не очень. Место сырое, к сожалению. Водянка головы начинается.
Все трое, как воробьи, забывшие о еще громыхающем вдали громе, повеселели и зачирикали, запрыгали по веткам, но новый удар грома, еще более грозный, раздался в этот момент…
Выразился он в довольно тихом стуке в дверь, стуке, в первый момент даже не услышанном за общим смехом.
Так и первое отдаленное погромыхивание грома почти не достигает уха, а потом вдруг усиливается, растет, растет…
– Можно войти?
– Кого там черти принесли?! Войдите!
Небольшого роста, рыжеватый человек с лисьей физиономией, одетый в рыжее платье, с оранжевым галстуком и в ботинках с рыжим верхом вошел в комнату.
Освещенный ярким светом камина, приблизился к трем друзьям и заискивающе сказал:
– Кто здесь Клинков?
– А! Вы, право, можете выбрать по своему вкусу, – с досадой заметил Клинков. – Мы здесь все одинаковые.
– Нет, – не обращая внимания на тон, возразил незнакомец, – может быть, вы все и были одинаковые, но с этого момента один из вас будет резко отличаться от других.
– Кто? – отрывисто спросил Подходцев.
– Господин Клинков.
– Послушайте, – угрюмо пробормотал Подходцев, – если с ним случится что-либо плохое – я вас испорчу; мне теперь все равно…
– Плохое? Что вы… Господин Клинков! Я поверенный вашего покойного отца… Он вчера скончался и оставил вам (гром все усиливался, крепчал и вдруг обрушился самым оглушительным образом), как единственному наследнику, два дома и около трехсот тысяч процентными бумагами!!! Я рад, что имел честь первый поздравить вас.
– Вы меня поздравляете? – странным тоном спросил Клинков.
– Да! Конечно. Вы сейчас богатый наследник.
– А знаете, я даже рад, что отец умер…
– Клинков! – укоризненно вскричал Громов.
– Рад за него, что он умер. По крайней мере, ему не придется иметь с вами дела…
Он ушел в угол и долго простоял там, лицом к стене. Отошел. Спросил глухо:
– Вспоминал меня перед смертью?
– Да. Говорил, что был неправ по отношению к вам. Еще раз – приношу мои искренние поздравления…
– Мне очень жаль… – промямлил Клинков.
– Чего?..
Клинков подумал и сказал искренним тоном:
– Что не вы умерли вместо него. Ступайте! Заходите завтра. Сейчас мне не до вас. У меня – Громов. Ясно? Прямо и налево!