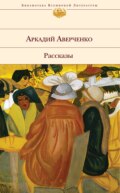Аркадий Аверченко
Подходцев и двое других
Глава 5.
Искусство рассказывать сказки
Громов самым нежным образом держал Валю на коленях и поил ее чаем с блюдечка.
Валя, отпивая глоток, останавливала внимательный взгляд на лице Громова, открывала рот, чтобы что-то спросить, но неопытный Громов, замечая отверстый рот, моментально заливал его теплым чаем.
Наконец Валя пустила в блюдце пузыри, отвернулась от него и спросила:
– А у тебя дитев нету?
– Нет, – сказал Громов.
– А отчего?
– Так, не водятся они у меня… – уклончиво ответил Громов.
– Он их жарит в сметане и ест, – вмешался Клинков. – Очень любит их. Только на сковородке.
– Ну хоть ребенка-то ты можешь оставить в покое! – с некоторым раздражением сказал Громов.
– Что это значит «хоть»? – спросил Клинков. – А кого я еще не оставляю в покое?
– Взрослых. Но они могут сами за себя постоять, а это – ребенок.
– А ну вас к черту, – вдруг рассердился Клинков. – Мне Марья Николаевна нравится, и я прямо высказываю это ей. Думаю, в этом нет ничего обидного. А вы чувствуете то же, но с пересадкой: ты изливаешь свою благосклонность на невинное дитя, Подходцев корчит из себя заботливого опекуна…
– Тссс! – засмеялась Марья Николаевна. – Я вовсе не хочу быть яблоком раздора. Вы все одинаково милые, и нечего вам ссориться…
– Впрочем, может быть, я тут и лишний, – кротко и задумчиво сказал Клинков, впадая в лирический тон, – так вы мне в таком случае скажите – я уйду.
– Нет, ты должен быть здесь, – строго сказал Подходцев.
– Почему?
– Потому что сор из избы обычно не выносится!
– А у тебя глазки закрываются? – спросила Валя, по-прежнему внимательно изучая лицо Громова.
– На многое, – усмехнулся Громов.
– Закрываются, я спрашиваю?
– О, еще как!
– А ну, закрой.
Громов закрыл.
– Так же, как у меня, – пришла в восторг Валя. – А сказки ты знаешь?
– Я-то? Знаю, да такие все ужасные, что не стоит и рассказывать. Очень страшные.
– А ты расскажи!
– Это нам легче легкого. Ну, о чем тебе?.. Видишь ли, была такая баба-яга. Жила, конечно, в лесу… Да… Лес такой был, она в нем и жила… Ну, вот – живет себе и живет… Год живет, два живет, три живет… Очень долго жила. Старая-престарая. Можно сказать, живет, поживает, добра наживает. Да-а… Да так, собственно, если рассудить, почему бы бабе-яге и не жить в лесу. В городе ее сейчас бы на цугундер, а в лесу – слава-те Господи! Вот, значит, живет она и живет… Пять лет живет, восемь…
Ревнивый взгляд Клинкова подметил, с какой лаской растроганная мать смотрит на рассказчика, дарящего своим вниманием ее крошку.
– Да что ты все: живет да живет, – перебил он. – Не знаешь, так скажи, а нечего топтаться на одном месте. Вот я тебе расскажу, мышонок мой славный… Ну, иди ко мне на колени – гоп! Слушай: жила-была баба-яга… Поймала она раз в лесу мальчишку и говорит ему: мальчик, мальчик, я сдеру с тебя шкуру. – Не дери ты с меня шкуру, – говорит он ей. Не послушала она, содрала шкуру. Потом говорит: мальчик, мальчик, я тебе глаза выколю… – Не коли ты мне глаз, – хнычет мальчишка. Не послушала, выколола. – Мальчик, мальчик, – говорит она потом, – я тебе руки-ноги отрежу. – Не режь ты мне рук-ног. Но старуха, что называется, не промах – взяла и отрезала ему руки-ноги…
Увлеченный полетом своей фантазии рассказчик, возведя очи к потолку, не замечал, как лицо девочки все кривилось-кривилось, морщилось-морщилось и, наконец, она разразилась горькими рыданиями.
– Тебе бы сказки рассказывать не детям, а нижним чинам жандармского дивизиона, – сказал Подходцев, отнимая у него малютку. – Детка, ты не плачь. Дело совсем не так было: баба-яга действительно поймала мальчика, но не резала его, а просто проткнула пальцем мягкое темя малютки и высосала весь мозг. Мальчик вырвался от нее, убежал, а теперь вырос и живет до сих пор под именем Клинкова. Дырку в голове он заткнул любовной запиской, а мозгу-то до сих пор нет как нет.
– Очень мило, – пожал плечами Клинков. – Сводить личные счеты, вмешивая в это невинного младенца… Марья Николаевна! Если вам нужно куда-нибудь, я вас провожу…
– Собственно, мне нужно в два-три места по делу, но я думала, что меня будет сопровождать Подходцев. Он такой опытный в разных делах.
Клинков, чтобы скрыть смущение, подмигнул и сказал, выпятив грудь:
– Да-с! Клинков совсем не для разговоров о делах. С Клинковым разговаривают совсем о другом.
Отошел к окну и стал сосредоточенно глядеть на улицу.
А Громов отозвал Подходцева в сторону и, краснея, шепнул ему:
– Почему ты с ней едешь, а не я?
– А почему ты бы поехал, а не я?
– Да, но ведь я ее нашел, я ее привел…
– Ну, ну! Без собственников… Что она, котенок бродячий, что ли? Зато я добыл для нее ребенка, и, наконец, она сама меня пригласила…
– Пожалуйста, – хмуро сказал Громов. – Ты прав, я не спорю. Клинков! А ты что думаешь делать?
– Я думаю приказать, – сказал, продолжая стоять у окна спиной ко всем, Клинков, – чтобы мой кучер Семен заложил пару моих серых в яблоках, и поеду к князю Кантакузен.
– Оставайся лучше дома, – бледно улыбнулся Громов, – серых мы выбросим, яблоки съедим, а потом займемся с Валей – не оставлять же девочку одну. Валя! Я тебе сейчас нарисую крокодила.
И, погладив девочку по головке, Громов принялся чинить карандаш.
Глава 6.
Подходцев самый умный. Идиллия
Сумерки…
Подходцев лежал на кровати, заложив руки за голову, и мечтал бог его знает о чем. Изредка хмурился, сжимал голову руками, но потом, испустив легкий вздох, снова опадал, как внезапно ослабевшая пружина…
Громов безмолвно сидел на подоконнике, устремив упорный взгляд на улицу – «изучал кипучее уличное движение», как он вяло объяснил друзьям, заинтересованным его странным поведением.
Валя сидела на коленях у Клинкова и, по своему обыкновению, рассматривая в упор лицо своего взрослого собеседника, несколько раз тоскливо спрашивала:
– Где мама?
– Мама ушла по делу, – неизменно отвечал Клинков, разглаживая ее кудри. – Скоро вернется.
– Да она уже давно ушла.
– Тем больше резонов ей скорее вернуться.
– Чего?
– Резонов.
– Каких?
– Ты знаешь, что такое резон?
– Н… нет.
– Это такой человек, который детей режет, когда они пристают к нему с расспросами.
– А где он живет?
– На углу Московской и Безымянного…
– Он ходит по улицам?
– Да, уж такое его поведение, – рассеянно отвечал Клинков, прислушиваясь к чьим-то шагам на лестнице.
– А он маму не возьмет?
– Кажется, что мы все этого серьезно опасаемся, – с грустной насмешливостью ответил за Клинкова Подходцев…
– Не говори глупостей, – оборвал его Громов. – Раз Марья Николаевна говорит, что идет по делу, значит, дело существует.
– Конечно, существует, – как-то странно неестественно хрипло рассмеялся Подходцев. – А если бы вы слышали, как это «дело» звякает шпорами! Прямо малиновый звон.
Кубарем скатился с подоконника Громов и, подступив к холодно глядевшему на него Подходцеву, спросил дрожащим голосом:
– Что это значит?
– Шпоры-то? Да ведь шпоры были не сами по себе… Они были прикреплены к ногам… В темноте мне еще удалось рассмотреть живот, грудь, руки и голову. Все вместе составляло одного весьма недурного собой офицера… Он довозил ее до нашего подъезда.
– Может быть, это какой-нибудь родственник? – неуверенно предположил Клинков.
– Ну, да, – с некоторой надеждой подхватил Громов. – Она, вероятно, была у него по делу о разводе с мужем, и он довез ее потом до дому.
– Дескать, вечером одной опасно, – проговорил, призадумавшись, Клинков, – он ее и довез.
Громов добавил, ловя подтверждающий взгляд Подходцева:
– Обыкновенная вежливость.
– А не сыграть ли нам в карты? – вдруг ни с того ни с сего предложил Подходцев.
– Почему в карты? Во что именно?
– В «дураки». Конечно, игра эта ничего нового не прибавит к вашим характеристикам, но она лишний раз подтвердит то мнение о вас, которое я себе составил…
Громов и Клинков засмеялись, но ничего не возразили.
Громов стал тасовать карты, а Клинков повел Валю укладывать спать…
– Ну вот, Валя… Давай, я тебе сниму чулочки, башмачки и платьице, ты и ложись спать… Умыть тебя?
– Да ты всегда заливаешь мне воду за шею!..
– Это новый, открытый мной способ, на который я думаю взять привилегию. Иначе не умею.
– Мама лучше умывает.
– Ну, что там мама! У нее, брат, дел и без тебя много.
– Ну, вот видишь – опять всю облил.
– А ты сохни скорей, вот и будет хорошо.
– Ой, мыло в рот попало!..
– А я думал, ты взбесилась. Смотрю – изо рта пена. Выплюнь.
Долго возился заботливый, но крайне неуклюжий Клинков (с некоторых пор он заменил совсем павшего духом Громова) около девочки, пока не уложил ее в постель.
– Ну, спи, звереныш.
– Послушай, а Богу молиться… Почему ты меня не помолил?
– Ну, молись.
Девочка стала на колени.
– Ну? – обернулась она к нему.
– Что тебе еще?
– Говори же слова. Я ж так же не могу, когда мне не говорят слова.
– Ну, повторяй: «Господи, прости мою маму, Клинкова, Громова и Подходцева…» Они, брат, совсем, кажется, закрутились.
– …«Они, брат, совсем, кажется, закрутились», – благоговейно произнесла девочка.
– Нет, это не надо! Это не для молитвы, а так. Ну, теперь говори: «Спаси их и помилуй».
– А папу? – вдруг спросила Валя, глядя на него сбоку удивленным черным глазом.
– Папу? Ну можно и папу, – решил щедрый Клинков. – Бог его простит, твоего папу,
– Готово? – спросила девочка.
Клинков неуверенно согласился:
– Пожалуй, готово.
– А теперь сказку, – скомандовала Валя, ныряя под одеяло.
– Еще чего! Спи.
– Ну, скажи сказку, ну, пожалуйста.
– Да я все страшные знаю.
– Расскажи страшную!
– Ну, слушай: в одном доме разбойники убили старуху, отрезали ей голову и унесли, а туловище бросили в запертой квартире. Пришли домой, голову съели и легли спать. Вдруг ночью слышат, кто-то ходит по ихней комнате. Зажгли свет: глядь, а это старуха без головы ходит, растопыря руки, и ловит их: «Отдайте, дескать, мою голову»…
Неизвестно, до чего дошла бы эта леденящая кровь история, если бы из соседней комнаты не раздался окрик Подходцева:
– Клинков! Иди, я тебя в Громовых оставлю.
– В каких Громовых?
– Ну в дураках, не все ли равно.
Несмотря на все задирания Подходцева, друзья не парировали его шуток.
Слышались только краткие возгласы: «Тебе сдавать! Тройка! Ты остался!»
Глава 7.
Клинков снова уезжает
Громов предъявил Подходцеву «тройку», состоящую из семерки, восьмерки и короля, и заметил:
– Сколько она у нас уже живет? Вторую неделю?
– Да, – подтвердил Подходцев, рассеянно покрывая короля валетом и принимая семерку с восьмеркой. – Девятый день.
– Первые два дня она тебя с собой брала, когда ездила по делам, а теперь все сама да сама…
– Может, она боится затруднять Подходцева, – задумчиво предположил Громов, набирая из колоды сразу семь карт.
– Не симптоматично ли, – криво усмехнулся Подходцев, – что ты, Громов, как раз в эту минуту остался в дураках.
– Ты предполагаешь, что в эту минуту? – злобно подхватил Клинков. – Я думаю – раньше.
Громов бросил карты на пол и вскочил с места.
– Ну, так я же вам скажу, что вы оба свиньи и самые грязные лицемеры. Как?! Вы меня упорно называете глупцом, упорно смеетесь надо мной… А вы?!! Ты, Подходцев, разве ты не пробродил от семи до девяти часов вечера по нашей улице?!
– Я папиросы покупал!
– Два часа? За это время можно купить целую табачную фабрику!! А Клинков?! Раньше он сравнивал детей с клопами, говорил, что они «заводятся» и что их нужно шпарить кипятком – что заставляет его теперь возиться с девочкой, как нянька? Откуда этот неожиданный прилив любви к детям?!!
– Я всегда любил ухаживать за детьми, – попробовал вставить свое слово Клинков в этот шумный водопад.
– Да! Когда им было больше восемнадцати лет! Разве я не вижу, что Подходцев все смотрит в потолок да свистит какую-то дрянь, а когда она приходит, он расцветает и прыгает около нее, как молодой орангутанг. Разве не заметно, что Клинков, под видом сочувствия к ее горю, то и дело просит «ручку» и фиксирует поцелуй так, что всех тошнит… И вот, оказывается, что вы оба правы, вы в стороне, а я – неудачный ухаживатель, предмет общих насмешек… и… и…
– Выпей воды! – холодно посоветовал Подходцев.
– К черту воду!!
– Мне эта истерика надоела, – сверкнув глазами, заявил Подходцев. – Я сейчас ложусь спать, и, если кто-нибудь еще вздумает оглашать воздух воплями, я заткну тому глотку своим пиджаком.
– Вся эта история чрезвычайно мне не нравится, – заявил вдруг тихо сидевший на своей кровати Клинков. – В воздухе пахнет серой и испорченными отношениями. Эта атмосфера не по мне. Вы как хотите, а я уеду. Сыт я по горло. Завтра сообщу свой адрес, а сегодня – прощайте.
Подходцев язвительно улыбнулся…
– Ага! Опять к дяде?
Клинков, не обращая на эти слова никакого внимания, сказал с озабоченным видом:
– Если девчонка вдруг проснется, пока мать не пришла, и начнет плакать, заткните ей рот мармеладом – у меня тут на шкапу для нее припасена коробка… Заверьте ее, что мать вернется с минуты на минуту. А то терпеть не могу этого визга.
– Да ведь тебя тогда все равно уже не будет!
– Ну, знаете, если такое сокровище раскричится, так и через три улицы слышно!.. Ну, вот и готово. Ничего, Громов, я сам. Чемодан не тяжелый.
Глава 8.
Неожиданная развязка
В этот момент на площадке раздались шаги, и в дверь кто-то постучался.
– Она – пролепетал Клинков и, весь вспыхнув, без сил опустился на чемодан.
– Войдите!
В комнату вошел человек, по внешнему виду очень смахивавший на денщика.
– Первые его слова, – шепнул Подходцеву Громов, – будут: «Так что…»
– Так что, – сказал денщик, – барыня кланяются, и вот от них записка, сами же они в своем местонахождении, уехамши.
Подходцев, как человек с наибольшим самообладанием и авторитетом, прочел записку и засмеялся:
– Распаковывайся, Клинков!
– А что?!
– Дайте полковнику на чай и отпустите его. До свиданья, полковник!
– Вот, господа, ценный автограф: «Извините, что прощаюсь не лично, а письменно. Зайти к вам не могу. Почему? – секрет. Спасибо вам за хорошее отношение. За вещами пришлю, а Валю отведите к папе. Может быть, вы когда-нибудь меня поймете… Преданная вам М.».
– Та-а-ак… Заметь при этом, что вещи у нее поставлены на первое место, а Валя на второе, – скорбно заметил чадолюбивый Клинков.
Громов пожал плечами:
– Ну, это ничего не доказывает. Она, вероятно, была очень взволнована.
– Бедный ребенок, – прошептал Подходцев.
– Бедная мать, – сказал Громов.
«Бедный Клинков», – подумал про себя эгоист Клинков.
– Клинков! Ты заменял девочке мать, ты и веди ее к отцу!
– Да, но ведь я не знаком с ним, а вы знакомы.
– Знаешь?.. Такое знакомство, как у нас с ним, всегда проиграет перед незнакомством, – заметил, успокоившись раньше других, Подходцев, хотя губы его нее еще дрожали. – Ну, в таком случае пойдем втроем.
– Как, ты не спишь? – удивился Клинков, зайдя в маленькую комнатку.
– Да, ты мне рассказал такую страшную сказку, что я не могла заснуть.
– Все к лучшему, мой юный друг, – сентенциозно заметил Клинков, натягивая ей чулочки. – Страшная сказка пришлась кстати.
– Куда мы? – удивилась девочка.
– К папе. Видишь ли, там, собственно говоря, мама… то есть ее еще нет, но когда-нибудь она придет. Да! Наверное. Этим всегда кончается – верь мне, цыпленок, – так говорит мудрый Клинков…
Кандыбов уже собирался спать, когда раздался звонок в передней, и три друга, эскортировавшие крохотную девочку, предстали перед изумленным хозяином.
– Что это значит? – сурово спросил он.
– Прежде всего – уведите девочку. Глаша, или как вас там, извиняюсь, не знаю – возьмите ее, – распорядился Подходцев. – Вот… А что касается нас, то… простите, мужественный старик, что я о вас худо думал. Нас ввели в заблуждение, и первое наше впечатление в том и другом случае оказалось… гм! обманчивым. Ваша жена… да вот, лучше всего прочтите записку!
Мужественный старик прочел записку, нисколько не удивился и потом спросил:
– А чего, собственно, вы впутались в эту историю?
– Единственно из доброты, – угрюмо сказал Подходцев.
– Думали: страдающая мать, осиротевший ребенок, – сокрушенно подхватил Клинков.
– А дочка у вас чудесная, – похвалил Подходцев. – Как вы могли отдать нам ее, не понимаю! Повесить вас за это мало!
От похвалы дочери старик расцвел так, что даже пропустил мимо ушей неожиданный конец фразы.
– Славная девчонка, не правда ли?
– Очаровательная. Нам будет без нее скучно, – вдруг выступил вперед Клинков. – Вы будете иногда отпускать ее к нам? Кстати, – вспомнил он, вынимая из-за пазухи знаменитую громовскую корову. – Вот ее корова. Передайте ей. Молока не дает, но зато и сена не просит.
– Откуда эта корова?
– Громов подарил. Чудесная девочка!
Надо знать отцовское сердце, чтобы допустить, казалось бы, невероятный факт: через полчаса три приятеля сидели у гостеприимного хозяина в его столовой, чокаясь старой мадерой и запивая свое горе, каждый по-своему: Клинков с Подходцевым шумно, Громов – угрюмо, молчаливо.
– Что это он такой? – участливо спросил хозяин.
– У него большое горе, – неопределенно сказал Подходцев.
А Клинков прибавил:
– Такое же почти, как у вас, только больше.
Глава 9.
Зловещие признаки, страшное признание
Громов сказал толстому Клинкову:
– Меня беспокоит Подходцев.
– Да уж… успокоительного в этом молодце маловато.
– Клинков! Я тебе говорю серьезно: меня очень беспокоит Подходцев!
– Хорошо. Завтра я перережу ему горло, и все твои беспокойства кончатся.
– Какие вы оба странные, право, – печально прошептал Громов. – Ты все время остришь с самым холодным, неласковым видом, Подходцев замкнулся и только и делает, что беспокоит меня. Вот уже шесть лет, как мы неразлучно бок о бок живем все вместе, а еще не было более гнусного, более холодного времени.
Тон Громова поразил заплывшее жиром сердце Клинкова.
– Деточка, – сказал он, целуя его где-то между ухом и затылком, – может быть, мы оба и мерзавцы с Подходцевым, но зачем ты так безжалостно освещаешь это прожектором твоего анализа?.. В самом деле – что ты подметил в Подходцеве?
Опрокинув голову на подушку и заложив руки за голову, Громов угрюмо проворчал:
– Так-таки ты ничего и не замечаешь? Гм!.. Знаешь ли ты, что Подходцев последнее время каждый день меняет воротнички, вчера разбранил Митьку за то, что тот якобы плохо вычистил ему платье, а нынче… Знаешь ли, что он выкинул нынче?
– И знать нечего, – ухмыльнулся Клинков, втайне серьезно обеспокоенный. – Наверное, выкинул какую-нибудь глупость. От него только этого и ожидаешь.
– Да, брат… это уже верх! Нынче утром подходит он ко мне, стал этак вполоборота, рожа красная, как бурак, и говорит этаким псевдонебрежным тоном, будто кстати, мол, пришлось: «А что, стариканушка Громов, нет ли у тебя лилового шелкового платочка для пиджачного кармана?» А когда я тут же, как сноп, свалился с постели и пытался укусить его за его глупую ногу, он вдруг этак по-балетному приподнимает свои брючишки и лепечет там, наверху: «Видишь ли, Громов, у меня чулки нынче лиловые, так нужно, чтобы и платочек в пиджачном кармане был в тон». Тут уж я не выдержал: завыл, зарычал, схватил сапожную щетку, чтобы почистить его лиловые чулочки, но он испугался, вырвался и куда-то убежал. До сих пор его нет.
– Черт возьми! – пролепетал ошеломленный этим страшным рассказом Клинков. – Черт возьми… Повеяло каким-то нехорошим ветром. Мы, кажется, вступили в период пассатов и муссонов. Громов… Что ты думаешь об этом?
– Думаю я, братец ты мой, так: из вычищенного платья, лиловых чулков и шелкового платочка слагается совершенно определенная грозная вещь – баба!
– Что ты говоришь?! Настоящая баба из приличного общества?!
– Да, братец ты мой. Из того общества, куда нас с тобой и на порог не пустят,
– Кого не пустят, а кого и пустят, – хвастливо подмигнул Клинков. – Меня, брат, однажды целое лето принимали в семье одного статского советника.
– Ну да, но как принимали? Как пилюлю: сморщившись. Мне, конечно, в былое время приходилось вращаться в обществе…
– Ну, много ли ты вращался? Как только приходил куда – сейчас же тебе придавали вращательное движение с лестницы.
– Потому что разнюхивали о моей с тобой дружбе.
– Дружба со мной – это было единственное, что спасло тебя от побоев в приличном обществе. «Это какой Громов? – спрашивает какой-нибудь граф. – Не тот ли, до дружбы с которым снисходит знаменитый Клинков? О, в таком случае не бейте его, господа. Выгоните его просто из дому». Что касается меня, то я в каком угодно салоне вызову восхищение и зависть.
– Например, в «салоне для стрижки и бритья», – раздался у дверей новый голос.
Прислонившись к косяку, стоял оживленный, со сверкающими глазами Подходцев.
Громов и Клинков принялись глядеть на него долго и пронзительно.
Переваливаясь, Громов подошел к новоприбывшему, поглядел на кончик лилового шелкового платочка, выглядывавший из бокового кармана, и, засунув этот кончик глубоко в карман, сказал:
– Смотри, у тебя платок вылез из кармана.
Подходцев пожал плечами, подошел к зеркалу, снова аккуратно вытянул уголок лилового платочка и с искусственной развязностью обернулся к друзьям.
– Что это вам пришло в голову рассуждать о светской жизни?
– Потому что мы в духовной ничего не понимаем, – резко отвечал Клинков, снова сваливаясь на кровать.
Лег и Громов (это, как известно, было обычное положение друзей под родным кровом). И только Подходцев крупными шагами носился по громадной «общей» комнате.
– Подойди-ка сюда, Подходцев, – странным голосом сказал Клинков.
– Чего тебе?
– Опять уголочек платка вылез. Постой, я поправлю… Э, э! Позволь-ка, брат… А ну-ка, нагнись. Так и есть! От него пахнет духами!!! Как это тебе нравится, Громов?
– Проклятый подлец! – донеслось с другой кровати звериное рычание.
И снова все замолчали. Снова зашагал смущенный Подходцев по комнате, и снова четыре инквизиторских сверкающих глаза принялись сверлить спину, грудь и лицо Подходцева.
– Ффу! – фыркнул наконец Подходцев. – Какая, братцы, тяжелая атмосфера… В чем дело? Я вас, наконец, спрашиваю: в чем же дело?!
Молчали.
И, прожигаемый четырьмя горящими глазами, снова заметался Подходцев по комнате.
Наконец не вытерпел.
Сложив руки на груди, повернулся лицом к лежащим и нетерпеливо сказал:
– Ну да, хорошо! Если угодно, я вам могу все и сообщить, – мне стесняться и скрытничать нечего… Хотите знать? Я женюсь! Довольно? Нате вам, получайте!
Оглушительный удар грома бабахнул в открытое окно, и белые ослепительные молнии заметались по комнате. А между тем небо за окном было совершенно чистое, без единого облачка. И мрачная, жуткая тишина воцарилась… надолго.
– Что ж… женись, женись, – пробормотал Клинков, тщетно стараясь придать нормальный вид искривленным губам. – Женись! Это будет достойное завершение всей твоей подлой жизни.
– А что, Подходцев, – спросил Громов, разглядывая потолок. – У вас, наверное, когда ты женишься, к чаю будут вышитые салфеточки?
– Что за странный вопрос! – смутился Подходцев. – Может, будут, а может, и нет.
– И дубовая передняя у вас будет, – вставил Клинков. – И гостиная с этакой высокой лампой?
– А на лампе будет красный абажур из гофрированной бумаги, – подхватил Громов.
Клинков не захотел от него отстать:
– И тигровая шкура будет в гостиной. На окнах будут висеть прозрачные гардины, а на столе раскинется пухлый альбом в плюшевом переплете с семейными фотографиями.
– А мы придем с Клинковым и начнем сморкаться в кисейные гардины.
– А в альбом будем засовывать окурки.
– И вступим в связь с твоей горничной!
– А я буду драть твоих детей, как сидоровых коз. Как только ты или твоя жена (madame Подходцева, ха, ха – скажите, пожалуйста!), как только вы отвернетесь, я, сейчас же твоему ребенку по морде – хлоп!
– Небось и елку будешь устраивать?.. – криво усмехнулся Клинков.
– Я твоим детям на елочку принесу и подарочки: медвежий капкан и динамитный патрон – пусть себе дитенок играет.
– А ты думаешь, Громов, что у него дети будут долговечны? Едва ли. Появится на свет Божий младенчик да как глянет, кто его на свет произвел, так сразу посинеет, поднимет кверху скрюченные лапки, да и дух вон.
– Да нет, не бывать этому браку! – с гневом воскликнул Громов. – Начать с того, что я расстрою всю свадьбу! Переоденусь в женское платье, приеду в церковь да, как пойдете вы к венцу, так и закачу истерику: «Подлец ты», скажу, «соблазнил меня, да и бросил с ребенком!»
– А я буду ребенком, – некстати подсказал огромный толстый Клинков. – Буду хвататься ручонками за твои брюки и буду лепетать: «Папоцка, папоцка, я хоцу кусать».
– Попробуй, – засмеялся Подходцев. – Я тебя накормлю так, что ног не потянешь.
И опять нервно зашагал Подходцев, и снова долго молчали лежащие…