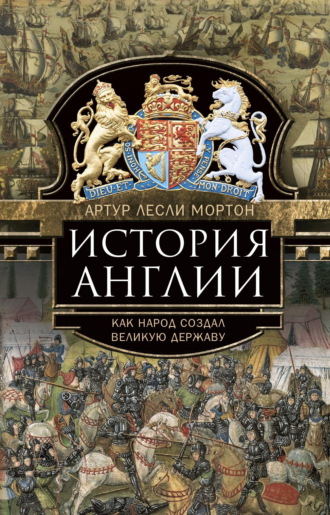
Артур Лесли Мортон
История Англии. Как народ создал великую державу
4. Международные отношения
После нормандского завоевания английские короли по-прежнему оставались нормандскими герцогами и даже использовали Англию как базу для расширения своих владений во Франции. Точно так же большое число соратников Вильгельма Завоевателя, которые одновременно являлись феодальными лордами Нормандии, продолжали владеть землями по обеим сторонам Ла-Манша. В течение не менее полутора столетий правящий класс Англии был чужеземным правящим классом, или, выражаясь иными словами, классом с двойной национальностью. Почти до конца XIII в. французский был общепринятым языком, и, когда в 1380 г. Чосер в своих «Кентерберийских рассказах» мягко высмеивает аббатису, которая «и по-французски говорила плавно, как учат в Стратфорде», мы не должны делать заключение, что французскому в Стратфорде учили недостаточно хорошо.
Этот двунациональный характер королей и баронов, а также тот факт, что поначалу Франция была им роднее Англии, определил и основное направление международных отношений. Для английских королей и тех баронов, что имели владения по ту сторону Ла-Манша, вошло в привычку проводить половину лета в походах во Францию. Поначалу Англия, возможно, имела для них большее значение в первую очередь потому, что являлась источником людских ресурсов и богатств, необходимых для их военных авантюр.
Гораздо важнее этих войн, которые не приводили к каким-либо долговременным результатам и подробности которых теперь уже забыты, было установление новых экономических связей и новых торговых областей, а также появление новых товаров и ремесел, занесенных в страну иностранными мастерами. За Вильгельмом Завоевателем шли не только солдаты. Многих торговцев словно магнитом притягивал к себе Лондон, неизменно являвшийся центром торговли Северной Европы. О росте Лондона мы уже упоминали; и его превосходство было теперь утверждено окончательно. Лондон служил складом для всех товаров, стекавшихся из богатых долин Англии. Он располагался напротив устья Рейна, служившего главным торговым путем между Средиземноморьем и Севером. Лондон уже установил тесные торговые связи со Скандинавией и Прибалтикой. Ко времени Этельреда там образовались постоянные колонии «людей императора», вероятно, рейнских купцов. За ними последовали купцы из северогерманских городов Ганзейского союза и Прибалтики.
Новые партии, на этот раз нормандских и фламандских купцов, стали прибывать в Лондон, привлеченные, по выражению одного из современников, тем, «что он лучше подходил для их торговли и надежнее хранил товары, которыми они имели обыкновение торговать».
Помимо Лондона выросла торговля с Фландрией и Прибалтикой через Ла-Манш в портах южного берега и таких городах, как Линн, Бостон и Ипсвич. И даже если объем этой торговли был не слишком велик по нынешним стандартам, он включал в себя целый ряд жизненно важных для Англии товаров, таких как железо, соль и ткани. Вплоть до XV в. Англия добывала и выплавляла совсем немного железа, и большая часть того, что использовалось в стране, поступала из Швеции и Северной Испании. В условиях, когда общий уровень цен составлял примерно один к двадцати по сравнению с современными, готовое железо стоило до 14 фунтов стерлингов за тонну. Дороговизна железа являлась одной из наиболее серьезных помех в развитии сельского хозяйства, поэтому на сельскохозяйственные орудия его расходовали крайне экономно. Бороны, например, почти всегда изготавливались из дерева, а в плугах только лемеха и резаки делались из железа. Шерсть и холсты были тоже несоразмерно дороги. Читатели баллады «Старый плащ» обратили внимание на то, как почтенный человек говорит о своем плаще как о предмете, служившем ему всю жизнь, и нередко одежда переходила из поколения в поколение по завещанию. В Англии делали только самые грубые ткани, более тонкие привозились из Фландрии. Соль тоже, несмотря на то что некоторое ее количество выпаривали в солеварнях по побережью, по большей части поставлялась из юго-западных областей Франции.

После нормандского завоевания список ввозимых товаров значительно расширился. Вина из Гаскони, дорогие и самые разнообразные ткани и пряности с Востока и даже такой громоздкий товар, как строительный камень, становятся в центре внимания. На строительство многих нормандских замков и церквей по берегу моря или вдоль судоходных рек использовали камень, добытый в каменоломнях Кана. В состав экспорта, согласно списку Генриха Хантингдонского, составленного им в середине XII в., входили шерсть, свинец, олово и скот. Правление английских королей по обеим сторонам Ла-Манша сделало путешествия для купцов относительно безопасными по значительной территории и препятствовало пиратству в Ирландском море.
Помимо купцов в Англию начали съезжаться и искусные мастера. Нормандцы слыли настоящими умельцами в строительстве каменных зданий; и для возведения замков и церквей им, вероятно, потребовалось большое число чужеземных каменотесов. Вильгельм I, взявший в жены дочь графа Фландрии, поощрял возникновение поселений фламандских ткачей. Эти поселения начали появляться сразу же после завоевания, а возможно, еще и до него. Мы находим, например, что деревня Флемптон в Суффолке упоминается в «Книге Страшного суда» под названием Флемингтун. Приходская церковь в этой деревне носит имя святой Катерины, чья мученическая смерть на колесе сделала ее покровительницей ткачей. Поселения фламандцев располагались по всей стране, пока по велению Генриха I большая их часть не была вынуждена переселиться на юг Уэльса.
Именно в связи с этими ткачами мы имеем возможность наблюдать первые зачаточные признаки классовой борьбы в городах. Купеческие гильдии, ставшие появляться в XII в., нередко издавали постановления, препятствующие ткачам получать городские привилегии. Совершенно очевидно, что купцы поступали так, поскольку пытались удержать ткачей на положении зависимых ремесленников, а не потому, что коренные горожане были враждебно настроены к незваным гостям из чужих мест, как это говорилось ранее.
По мере роста торговли центр тяжести перемещался, и Англия становилась для королей и баронов важнее Нормандии или Анжу. А поскольку поместья барона в Англии становятся главным средоточием его интересов, он все с меньшей охотой стал проводить лето во Франции, сопровождая короля в его военных походах. По установленным законам, феодальное войско обязано было отбывать военную повинность королю только сорок дней в году. Возможно, этого срока хватало для войны между двумя соседними европейскими государствами или владениями баронов, но для экспедиции из Англии во Францию этого было недостаточно. Чтобы найти выход, Генрих II разрешил и даже стал поощрять баронов выплачивать специальный налог, скутагии (щитовые деньги), в качестве заменены личной воинской повинности. Доходы от налога шли на то, чтобы нанять войска на все время похода.
Щитовые деньги свидетельствуют о том, в какой степени денежные взносы стали заменять теперь целый ряд старых повинностей и личных услуг, которые еще сохранялись в XI в. В то же время и со стороны лендлордов также наблюдается четко выраженное стремление превращать часть своих поместий в держание на условиях уплаты ренты и даже «коммутировать» на тех же условиях трудовые повинности своих вилланов. Деньги становятся все более необходимой потребностью отчасти еще и потому, что обмен стал делом обычным, а отчасти в связи с начавшимся с середины XII в. процессом повышения цен, который длился полтора столетия.
Во всех этих изменениях, приведших к тому, что деньги все больше входили в привычный обиход, определенная роль принадлежала целой серии войн, известных как крестовые походы, которые начались в 1096 г.
Крестовые походы были войнами переходного характера, сочетавшими в себе некоторые черты набегов скандинавов, совершавшихся в поисках добычи и земель, с характерными чертами поздних войн, которые велись с целью торговых и династических завоеваний. Поначалу эти походы предпринимались не королями, а баронами, жаждавшими заполучить новые, более богатые и независимые от короны владения, чем те, которые у них уже имелись. В этих ранних крестовых походах особенно активное участие принимали бароны из покоренных скандинавами областей Франции и Италии. Регулярному войску зачастую предшествовали орды изголодавшихся по земле крестьян, которые бродили по Европе, грабили, подвергались нападениям и находили свой бесславный конец.
В то же время крестовые походы были ответным ударом на новое вторжение мусульман, которые угрожали отрезать торговые пути на Восток и даже грозили покорить Константинополь. Религиозным мотивом этих войн служила цель освобождения святынь Иерусалима, и Палестина тогда была стратегическим ключом к Леванту. Во всяком случае, мусульманское нашествие преградило путь потоку паломников в Иерусалим, а эти паломничества были умело организованным коммерческим предприятием, не менее важным для некоторых стран средиземноморского побережья, чем туристический бизнес в современной Швейцарии. Папство возглавило организацию крестовых походов как средства усиления своего политического могущества.
Англия почти не принимала участия в первых крестовых походах, когда был захвачен Иерусалим и образовано Латинское королевство. Причина крылась в том, что английские бароны были заняты утверждением своей власти в новых, только что захваченных ими владениях, а позднее в том, что Уэльс и Ирландия предоставляли для наиболее рискованных и жадных до новых земель баронов – именно для таких, кто составлял основное ядро армии крестоносцев, – схожие, но более многообещающие возможности гораздо ближе к дому.
В Третьем крестовом походе, для которого поводом послужило взятие Иерусалима армиями Саладина, европейские короли впервые приняли непосредственное участие. Среди них особенно видную роль играли французский король Филипп и король Англии Ричард I. Впервые в истории английские корабли вошли в Средиземное море, и избрание покровителем святого Георгия Ричардом послужило одновременно и символом, и прямым результатом его союза с восходящей морской державой, Генуэзской республикой. Сам крестовый поход оказался неудачным, стоившим колоссальных людских потерь и огромной суммы денег, к тому же Ричарду, истратившему целое состояние на подготовку похода, пришлось собрать не меньше денег, чтобы дать за себя выкуп германскому императору, в плен к которому он попал, возвращаясь домой в Англию. Тем не менее этот поход привел к установлению прямых и прочных связей между Англией и торговыми городами Италии, и, таким образом, Англия вступила в мировую торговлю.
В самой Англии одним из первых результатов крестового похода был еврейский погром. Евреи пришли в страну вскоре после нормандского завоевания и считались королевской собственностью особого рода. Им были запрещены все обычные виды торговли и ремесла, и корона использовала их в качестве ростовщиков на манер губки, которая впитывала деньги их соседей и затем выжималась королевской казной. Таким способом удавалось маскировать королевские поборы, а гнев, вызываемый этими поборами, обращался на евреев, а не на короля. Всякий раз, когда корона ослабляла свое покровительство, как это случилось в 1189 г., евреи подвергались резне и грабежу.
Снаряжение такого большого войска, с которым Ричард отправился в крестовый поход, потребовало исключительно больших сумм наличных денег. Взимались эти деньги различными путями, но в первую очередь посредством продажи хартий городам. Ко времени нормандского завоевания эти города, за исключением Лондона, представляли собой не более чем разросшиеся деревни, принадлежавшие либо короне, либо некоему феодальному лорду или монастырю. По-прежнему находясь в зависимости от обработки общинных полей, эти города отличались от окружавших их сельских местностей главным образом несколько менее тягостными условиями земельных держаний. Тем не менее с них взимали всякого рода поборы и ренты, как произвольные, так и вынужденные. По мере роста города начинают вступать в сделки со своими сеньорами, обязуясь выплачивать единовременную сумму или, что чаще, ежегодный откуп, дабы освободиться от своих повинностей. Эта сделка требовала специальной хартии и создания корпоративного органа горожан, коллективно ответственного за уплату откупа. По мере своего развития купеческие гильдии все теснее сплетались с этими организациями горожан и нередко сливались с ними полностью.
Генрих II жаловал такие хартии, хотя и довольно скупо. Нужда в деньгах привела к тому, что Ричард стал применять эту практику шире, а безотлагательность этой нужды позволила городу заключать очень выгодные для себя сделки. Во всяком случае, в то время, когда шло развитие торговли и городов, такие фиксированные взносы, становившиеся менее тяжкими, представляли для горожан немалую выгоду, что позволило повысить общий уровень благосостояния. Здесь мы снова можем наблюдать развитие денежной экономики в рамках феодального строя.
Возникновение самоуправляющихся городов, «коммун», свободных от системы личной зависимости и услужения, привело к образованию новых общественных классов, готовых вступить на политическую арену. Недолгое правление Ричарда стало, таким образом, периодом важнейших преобразований. Это было также время, когда созданный Генрихом II бюрократический аппарат правления подвергся испытанию в отсутствие самого короля. Под управлением юстициария Хьюберта Уолтера[15] он доказал свою жизнеспособность, когда попытка Иоанна, брата Ричарда, поднять мятеж была успешно подавлена. Этот мятеж был в истории Англии последним случаем, когда феодальный магнат пытался установить власть, противоположную и независимую от государства.
5. Великая хартия
Хотя период от нормандского завоевания до 1200 г. был временем роста власти государства и короля как его главы, этот рост не выходил за рамки условий, определяемых характером феодального строя. Ни один из королей не стремился к абсолютному правлению и не питал надежды, что ему удастся преодолеть расплывчатые, но в целом чтимые пределы феодального соглашения, в рамках которого воплощался существующий баланс классовых сил. Было общепризнано, что король имеет определенные права и обязанности – оберегать мир, возглавлять армию во время войны, обеспечивать своим вассалам сохранность их владений, а также право взимать определенные поборы, взыскивать военные и другие повинности со своих вассалов и принимать от них присягу на верность как верховный владетель всех земель. В свою очередь, и вассалы короля также имели свои права и обязанности.
В частности, обязательства их ограничивались конкретными случаями и твердо установленным размером, а после смерти королевского вассала поместье должно было перейти к его наследнику после уплаты общепринятого взноса.
За основными правами шло право вершить суд над своими арендаторами, что являлось важной статьей дохода. Хотя, как мы видели, королевские суды расширяли сферу своей деятельности за счет уменьшения доли частных юрисдикций, осуществлялось это тем не менее весьма осторожно и скорее путем введения более эффективных механизмов судебного процесса, чем путем прямого принуждения.
На крайний случай за баронами сохранялось право поднять мятеж. Если феодальное соглашение бессовестно нарушалось королем и все попытки восстановить справедливость терпели неудачу, бароны имели право отречься от верности своему сюзерену и добиваться восстановления своих прав войной. Этот способ всегда был делом крайне рискованным, а в Англии, где корона обладала властью более сильной, чем где-либо, а бароны слабее, и безнадежным занятием. Даже самым сильным союзам баронов не удавалось победить корону, когда, как это было в 1095 и 1106 гг., она находила опору среди остальных классов и слоев населения.
Иоанн, самый способный и беспринципный из всех королей Анжуйской династии, попытался преступить пределы полномочий, на которые корона могла претендовать без нарушения феодальных соглашений. Он взимал чрезмерные платежи и налоги такими способами и при таких обстоятельствах, которые не дозволялись обычаем; он конфисковал поместья у своих вассалов без суда; произвольно забирал дела из баронских судов и передавал их в свои королевские суды. Одним словом, всячески пренебрегал законом и обычаями. Его административный аппарат непосредственно угрожал правам баронов и фактически правам всех свободных людей, то есть всех тех, кто стремился поддерживать эффективную деятельность феодального государства, основной обязанностью которого, чего никогда не следует забывать, было держать в повиновении массы сервов и коттариев, лично свободных малоземельных крестьян. Новые порядки Иоанна касались не одних только баронов. Угрозе подверглись также церковь и города, которые во время двух предыдущих правлений все более четко осознавали свои корпоративные права, а теперь вынуждены были платить всевозможные новые налоги и сборы.

В результате корона оказалась полностью изолированной от тех общественных слоев, которые прежде служили ей самой надежной опорой. Особенно неудачным оказалось притеснение Иоанном прав церкви, так как оно совпало с периодом необычайного усиления власти церкви при папе Иннокентии III.
Но даже несмотря на этот произвол, Иоанн мог добиться успеха, если бы не провал его внешней политики. Спор о престолонаследии с его племянником Артуром вовлек Иоанна в длительную войну с Францией. Одну за другой он потерял провинции, принадлежавшие его отцу, включая и герцогство Нормандское. Потеря Нормандии означала для многих английских баронов утрату огромных родовых поместий. В их глазах Иоанн не исполнил свою первейшую обязанность – охранять владения своих вассалов.
И в то же время потеря владений за границей заставила их еще больше заботиться о сохранении тех, что все еще оставались в Англии.
В этот период, лишившись поддержки своих баронов, Иоанн вступил в прямой спор с Иннокентием III за назначение на вакансию архиепископа Кентерберийского. Игнорируя королевского кандидата и нарушая установленные правила, Иннокентий посвятил в архиепископы Стефана Лэнгтона и для подтверждения своего назначения подверг Англию интердикту[16]. Вслед за этим он объявил Иоанна лишенным престола и отлученным от церкви и убедил королей Франции и Шотландии начать против него войну. В ответ Иоанн заключил военный союз с Фландрией и германским императором. Однако его силы были ослаблены в битве при Бувине в 1214 г., а английские бароны отказались сражаться. Даже объявление о покорности Иннокентию в последнюю минуту не смогло вернуть Иоанну поддержки английской церкви, а Лэнгтон продолжал действовать в качестве мозга баронского восстания.
Иоанн остался один. Теперь он был лишен возможности созвать ополчение, которое в прежние времена являлось козырной картой короны в ее борьбе со знатью. Уже один этот факт свидетельствует о том, что движение против Иоанна приняло в известной степени общенародный характер. Нехотя он сдался и 15 июня 1215 г. в долине Раннимед согласился принять программу требований, изложенных баронами в Великой хартии.
Великую хартию справедливо считают поворотным пунктом в английской истории, однако почти всегда по неверным причинам. Хартия не являлась «конституционным» документом. Она не воплощала принципа «никаких налогов без утверждения». Она не гарантировала парламентского правления, потому что его тогда еще не существовало. Она не устанавливала права ведения судебных дел через присяжных, по той простой причине, что присяжные являлись частью королевского судебного аппарата, против которого бароны питали самую большую неприязнь.
Однако в ней содержалось подробное перечисление совершенных Иоанном нарушений тех прав, которыми он мог пользоваться как феодальный сюзерен, и требование о том, чтобы его беззаконные деяния были прекращены. Она ознаменовала союз между баронами и лондонскими горожанами, настаивая на освобождении купечества от произвольного налогообложения. В других же отношениях, как, например, в попытке ослабить влияние королевских судов, хартия оставалась реакционной. И несмотря на то что ее самая знаменитая статья провозглашала, что «ни один свободный человек не может быть арестован, или заключен в тюрьму, или лишен имущества, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо иным способом погублен и что мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе как по законному приговору его пэров и по закону страны», слова «свободный человек» не позволяли пользоваться этими привилегиями широким массам населения, находившимся все еще на положении крепостных. Уже позже, когда крепостной строй пришел в упадок, эта статья хартии приобрела новый смысл и новую значимость.
Важнее всех перечислений злоупотреблений, совершенных королем, была статья, учреждающая создание постоянного комитета из двадцати пяти баронов, которые должны были следить, чтобы Джон сдержал свои обещания. Это была реальная попытка создать механизм, который устранял бы необходимость открытого восстания, ибо оно могло иметь успех только при таких исключительных обстоятельствах, какие создались в 1215 г., или, в самом худшем случае, гарантировать, что восстание начнется для баронов наиболее благоприятным образом. Сам по себе этот новый механизм не действовал особенно эффективно, но он открыл новый путь, создав баронам возможность вести политическую борьбу как общественному классу, а не в одиночку. Это нововведение подготовило также путь для вступления на политическую арену новых классов. Оно привело к развитию парламента как инструмента, с помощью которого сначала знать, а позднее и буржуазия могли отстаивать и защищать свои интересы.
Как только бароны разъехались, Иоанн денонсировал хартию и собрал войско. Бароны ответили ему тем, что объявили его низложенным и предложили корону Людовику, сыну французского короля. Последовала гражданская война, прерванная смертью Иоанна в октябре 1216 г. Его сыну Генриху было только девять лет, и сторонники Людовика поспешили переметнуться на сторону юного принца. Генрих был коронован, и группа баронов во главе с Уильямом Маршаллом, графом Пемброком и Хьюбертом де Бургом стала править от его имени. За долгий период несовершеннолетия короля принципы хартии приняли характер основных законов страны. В последующие века Великая хартия торжественно подтверждалась всеми королями от Генриха III до Генриха VI.
Последующая история этого документа весьма любопытна и делится на три периода. С упадком феодализма практическая нужда в хартии отпала и о ней потихоньку забыли. Тюдоровская буржуазия находилась в слишком тесном союзе с монархией, чтобы желать установления какого-либо контроля над ней, в то время когда силы знати были подорваны войнами Алой и Белой розы. Шекспир в своей пьесе «Король Иоанн» ни разу не упоминает о Великой хартии и, вполне возможно, никогда о ней и не слыхал.
Когда во времена Стюартов буржуазия вступила в революционный период, хартию снова извлекли на свет и, будучи оформленной на специальном феодальном языке, она была совершенно неверно истолкована и использована в качестве основания для требований парламента. Такой взгляд на хартию как на краеугольный камень демократических прав продолжал существовать в течение большей части XIX столетия. И только в последние пятьдесят – шестьдесят лет историки критически рассмотрели ее как феодальный документ и раскрыли его подлинную сущность и значение.
Именно потому, что Великая хартия отмечает высшую точку феодального развития и наиболее четко выражает природу феодальных классовых отношений, она также знаменует выход общества за пределы этих отношений, являясь одновременно и кульминацией, и отправной точкой. Добившись хартии, бароны одержали свою величайшую победу, но только ценой действий, которые не являлись уже строго феодальными, а путем формирования новых социальных объединений, как внутри своего класса, так и в союзе с другими.


