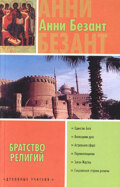Анни Безант
Исповедь
Наступила весна 1874 г. и через несколько недель мы с матерью должны были зажить по семейному в своем новом домике. Мы строили всевозможные планы, и загадывая о том, как должна сложиться новая жизнь, погружались в воспоминания о прежних годах, проведенных вместе. Мы обсуждали воспитание Мабель и то, какое участие в нем будет принимать каждая из нас. Какими все это оказались напрасными, несбыточными мечтами! Моя мать уехала в Лондон и через две недели я получила телеграмму, что она опасно больна; ближайший курьерский поезд примчал меня к ней. Доктор объявил её состояние безнадежным и сказал, что она проживет не более трех дней. Я передала ей приговор доктора, но она заявила решительным тоном: «я чувствую, что не умру еще теперь», и это оказалось верным. У неё наступил припадок страшной прострации – биение сердца почти совсем прекратилось; это был настоящий поединок со смертью, но грозная тень отступила. Я ухаживала за матерью дни и ночи с отчаянием в душе – судьба коснулась теперь самого дорогого для меня существа; я силой любви не давала ей умирать и обоюдными усилиями мы долго боролись против врага. Наконец, наступила водянка и роковой исход неумолимо приближался. Тогда, после восемнадцати месяцев уклонения от церковных обрядов, я в последний раз причастилась. Мать моя чувствовала сильную потребность приобщиться перед смертью, но упрямо отказалась сделать это, если и я не причащусь вместе с нею. «Если причастие необходимо для спасения души», настойчиво говорила она, «то я не хочу спастись, зная, что для Анни спасение невозможно. Я предпочитаю погибнуть вместе с ней, чем быть спасенной без нее». Я отправилась к одному знакомому пастору и изложила ему положение дела; как и следовало ожидать, он отказал мне в причастии. Я обратилась к другому и результат был тот же. Тогда мне пришла в голову мысль о настоятеле Вестминстерского аббатства, Стенли, любимце моей матери и человеке, известном как самый либеральный человек среди англиканского духовенства. Что, если я обращусь к нему? Я не была знакома с ним и чувствовала, что моя просьба может показаться дерзкой; но была возможность, хотя и весьма слабая, надеяться на успех, и на что бы я ни решилась тогда, чтобы облегчить последние дни умирающей матери? Не посоветовавшись ни с кем из окружающих, я отправилась в аббатство, робко спросила как пройти к настоятелю и с замирающим сердцем отправилась вслед за человеком, который указывал мне дорогу. На минуту я осталась в библиотеке, затем вошел настоятель. Я никогда с тех пор не чувствовала такой неловкости, как во время минутной паузы, когда он стоял, ожидая, чтобы я заговорила и устремляя на меня вопрошающий взгляд своих светлых, спокойных и проницательных глаз.
Очень робко и, вероятно, очень нескладно изложила я ему свою просьбу, заявляя, с резкой искренностью, что мать моя умирает и хочет приобщиться пред смертью, требуя и от меня этого же. Я рассказала ему, что два пастора отказали мне в разрешении участвовать в церковном обряде, что я обращаюсь к нему доведенная до отчаяния, чувствуя, как велика моя дерзость, но помня только одно, – что мать моя умирает.
Лицо его приняло выражение большей мягкости. «Вы хорошо сделали, что пришли ко мне», сказал он своим тихим, музыкальным голосом, при чем его пристальный взгляд сделался удивительно нежным, хотя и не менее прямым. «Конечно, я отправляюсь к вашей матери и если вы не откажетесь поговорить со мной о своем душевном состоянии, я, быть может, смогу найти способ исполнить желание вашей матери».
Я едва сумела выразить свою благодарность, до того меня тронуло его участливое отношение; после тревоги и боязни отказа реакция была до того сильна, что причиняла страдание. Настоятель Стенли сделал более нежели я просила. Он сам вызвался навестить мою мать в тот же день, поговорить с ней и только на следующий день прийти приобщать ее.
Он исполнил обещание и приехал в тот же день в Бромптон, поговорил с матерью полчаса и потом принялся толковать со мной.
На следующий день мать моя приобщалась Св. Тайн. Мне пришлось вынести большую борьбу с самой собой, прежде чем я обратилась с такой большой просьбой к незнакомому человеку; но теперь я была вполне вознаграждена, видя как улеглось душевное страдание моей матери под влиянием светлой, гуманной личности Стенли. С бесконечным тактом он успокоил её тревогу обо мне, уговаривая ее не опасаться различия убеждений в тех случаях, когда душа стремится к истине. «Помните», – говорил он ей, как она мне передавала, – «помните, что наш Бог – Бог истины и что поэтому никакое искание правды не может возбуждать в нем гнева».
После этого он еще раз был у нас, и после разговора с матерью у нас с ним завязалась опять длинная беседа. Я решилась спросить его, когда разговор принял подходящее направление, как это он, с своими широкими взглядами, находил возможным оставаться членом англиканского духовенства. «Мне кажется», – мягко возразил он, – «что я приношу большую пользу истинной религии, оставаясь в церкви и стремясь к расширению её границ извнутри, чем если бы я оставил ее и работал извне». И он стал объяснять, как он независим в положении настоятеля Вестминстерского аббатства и как поэтому он может придать аббатству большее национальное значение, чем это было бы возможно в иных обстоятельствах. Во всем, что он говорил, видна была его любовь к великому национальному памятнику, и легко было понять, что исторические воспоминания, любовь к музыке, живописи и стройной архитектуре аббатства были тем, что связывало его с «старинной национальной церковью Англии». Он связан был с церковью не умом, а чувством, и с чуткостью культурного ученого боялся того, что старинные памятники могут очутиться в руках, чуждых искусству.
Смерть моей матери приближалась все быстрее. Я наскоро устроила несколько комнат в нашем маленьком домике, чтобы перевезти мать в лучший воздух Норвуда; доктор позволил повезти ее в коляске. На следующий вечер ей вдруг сделалось хуже; мы уложили ее в постель и вызвали по телеграфу врача. Но он ничем не мог помочь, и она почувствовала сама близость смерти. Самоотверженная до конца, она думала только о том, что оставляет меня одинокой. «Я тебя покидаю одну», вздыхая повторяла она; и в самом деле я почувствовала с ужасом, в котором не осмеливалась признаться самой себе, что когда она умрет, я в самом деле останусь одинока.
Еще два дня пробыла она со мной, и я не отходила от неё ни на минуту. Десятого мая упадок сил вызвал у неё легкий бред; несмотря на это, однако, она продолжала следить заботливым взглядом за моими движениями по комнате до тех пор, пока глаза её не закрылись навсегда; когда солнце спускалось все ниже на небе, дыхание её все более слабело, наконец тишина смерти охватила нас, и матери моей не стало.
Оглушенная и придавленная своей утратой, я прожила следующие несколько дней в каком-то тумане. Я не допускала, чтобы кто либо касался умершей кроме меня и любимой сестры моей матери, жившей у нас во все время болезни. Я оставалась холодной и не пролила ни одной слезы, даже когда гробовая крышка скрыла от меня лицо матери; не плакала я также и на протяжении всего длинного пути в Кенсэль-Грин, где похоронены были муж и маленький сын моей матери, и тогда, когда мы оставили ее в сырой, размытой весенними дождями земле. Я не могла поверить, что все наши мечты умерли и похоронены, и что наш дом рушился прежде еще, нежели он был построен настоящим образом. Дом мой воистину достался мне опустелым, и комнаты, залитые солнцем, но не освещенные её присутствием, казалось, оглашались гулким откликом пустых стен, без устали повторявших: «ты совершенно одинока».
Но я имела при себе свою маленькую дочь, её милое личико и резвая фигурка облегчали одиночество, между тем как её настойчивое требование внимания и ухода заставили меня вернуться к будничным заботам и интересам. Жизнь моя была очень тяжелая в те весенние я летние месяцы; я сильно нуждалась в деньгах и не могла приискать работы. Первые два месяца после смерти матери были самыми мрачными в моей жизни и полными тяжких материальных забот. Маленький домик в Colby-Road был очень дорог для моих средств, а искание работы не увенчалось успехом. Не знаю, что бы я делала, если бы не находила всегда поддержку у м-ра и м-сс Томас-Скотт. В течение этого времени я написала для м-ра Скотта брошюры о Вдохновении, об Искуплении, Посредничестве и Спасении, Вечных Муках, Религиозном воспитании детей, природе, противопоставленной религии откровения, и те немногие гинеи, которые я зарабатывала таким образом, приходились мне очень кстати. Дом м-ра и м-сс Скотт тоже был для меня всегда открыт и это имело для меня большое значение; часто случалось, что у меня хватало денег только для пищи на двоих, а не троих, и тогда я уходила на целые дни в британский музей, заявляя, что буду обедать «в городе», т. е. на самом деле совершенно не обедать. Если я не приходила в течение двух вечеров к моим гостеприимным соседям, м-сс Скотт приходила узнавать, что случилось и уводила меня к себе, и часто ужин у них в доме имел существенное значение для моего физического состояния. В 1879 г., когда Томас Скотт лежал мертвый, я с искренним чувством писала в своем дневнике: «Дом Т. Скотта был открыт для меня в пору, когда я терпела наибольшую нужду. Когда я приходила к ним, уставшая и изможденная, после целого дня занятий в музее, ничего почти не евшая, его радушное приветствие: «ну, как живете, голубушка?» заставляло меня сразу забывать свое одиночество. Ни к кому на свете – за исключением одного человека – я не отношусь с большей благодарностью, чем к Томасу Скотту».
Те немногие драгоценности, которые у меня остались, так же как и лишние теперь туалеты были обменены на предметы более необходимые и ребенок по крайней мере не терпел уже ни в чем недостатка. Моя служанка Мэри была изумительно экономна и вела хозяйство на самые скудные средства, умея при этом придать дому в высшей степени уютный и привлекательный вид. Вспоминая о тяжелых днях той поры, я думаю о них теперь без сожаления. Напротив того, я рада теперь, что прошла через это испытание, потому что оно научило меня питать сочувствие к тем, кто так же борется, как я тогда, – и всякий раз, когда я слышу из бедных уст слова: «я голоден» – я вспоминаю страдания, причиняемые голодом, и, хотя бы на одну минуту, чувствую это страдание.
Присутствие ребенка приносило мне большую отраду, поддерживая жизнь в моем исстрадавшемся, одиноком сердце. Мабель играла целыми часами около меня в то время, как я работала, и для того, чтобы я чувствовала себя счастливой, мне достаточно было перекинуться с ней словом от времени до времени. Когда мне нужно было уходить без неё, она провожала меня до дверей и прощалась со мной с дрожащими губами; она стояла целыми часами у окна, дожидаясь моего возвращения и её сияющее личико было всегда первым, попадавшимся мне на глаза при возвращении домой. Часто я приходила усталая, голодная и упавшая духом и тогда блеск маленьких глазок, следящих за мной, напоминал мне, что я должна глядеть бодро, чтобы не смущать своей малютки, и усилие сбросить с себя уныние ради неё изгоняло его совсем и вернуло свет в мою душу. Она была отрадой и радостью моей жизни, моя златокудрая малютка с сияющими глазами и страстной, любящей и настойчивой натурой. В моем усталом, истерпевшемся сердце стало крепнуть новое чувство, сосредоточенное на этом маленьком слабом существе; в ребенке я опять нашла кого любить и о ком заботиться, и могла удовлетворить таким образом одно из самых сильных влечений моей натуры.
Глава VI
Чарльс Брэдло
В течение всех этих месяцев моя духовная жизнь не останавливалась; я прокладывала себе путь вперед медленными и осторожными шагами. Умственная и общественная сторона моей жизни доставляла мне отраду, которой я никогда не испытывала в годы рабства, Во-первых, я наслаждалась сознанием свободы, возможностью открыто и искренно высказать каждую свою мысль. Я имела право сказать себе, что свобода досталась мне дорогой ценой, и заплатив эту цену, я наслаждалась купленным освобождением. Ценная библиотека м-ра Скотта была в моем распоряжении; его светлый ум возбуждал мою умственную деятельность, заставлял меня работать над доказательствами того, что я утверждала, и вводил меня в области мышления, неведомые мне до того. Я стала работать более чем когда либо, и не опасалась уже результатов, к которым может привести чтение.
Я часто бывала в небольшой церкви South Place Chapel, где Монкюр Конвэй был одним из главных проповедников и беседы с ним помогли мне в значительной степени расширить взгляды на более глубокие религиозные вопросы.
Наконец я сказала м-ру Скотту, что хотела бы написать рассуждение «о сущности и бытии Божием».
Он пристально взглянул на меня: «Так вы уже, значит, подошли к этому вопросу, голубушка. Я знал, что этим кончится. Пишите непременно».
В то время, как эта брошюра еще была в рукописи, случилось нечто, имевшее влияние на всю мою последующую жизнь. Я познакомилась с Чарльсом Брэдло.
Однажды поздней весной я разговаривала с м-сс Конвэй – одной из самых нежных и вместе с тем сильных натур, с которыми мне приходилось встречаться в жизни; ей и её мужу я многим обязана за дружеское отношение ко мне в дни бедности, когда у меня было так мало друзей. В течение разговора она спросила меня, бывала ли я на чтениях научного клуба в Old Street. С свойственной людям глупой привычкой повторять мнения и предрассудки других, я ответила: «нет я никогда не хожу туда. Говорят, что м-р Брэдло обладает очень грубым, неприятным красноречием. Ведь это так и есть?»
– Он лучший английский оратор, какого мне приходилось слышать, – ответила она, – за исключением, быть может, Джона Брайта. Власть Брэдло над толпой совершенно безгранична. Согласитесь ли вы с его теориями, или нет, но послушать его вам следует.
В июле того же года я зашла в книжный магазин Е. Трулева, об изданиях которого узнала из какой-то книги; мне нужно было достать у него некоторые брошюры контистов. На столе в магазине лежал номер «National Reformer» и, привлеченная заглавием, я купила газету. Севши в омнибус, который отправлялся на вокзал Victoria, я спокойно развернула газету и принялась читать; поднявши случайно глаза, я с трудом смогла удержаться от смеха при виде какого-то старого господина, который глядел на меня с выражением беспредельного ужаса. Вид молодой женщины, прилично и скромно одетой, и держащей в руках атеистическую газету, нарушил очевидно его душевный покой, и он так пристально стал глядеть на газету, что мне хотелось передать ему ее на прочтение; это неуместное желание я однако подавила в себе.
Первый прочтенный мною нумер газеты, с которой я впоследствии была так близко связана, был от 19 июля 1874 г.; в нем были напечатаны два длинных письма некоего м-ра Арнольда из Нордгэмпона, сильно нападающего на м-ра Брэдло; краткий и замечательно сдержанный ответ последнего был напечатан после писем Арнольда. В газете помещена была также статья о «национальном обществе свободомыслящих», и из неё я узнала об организованной пропаганде свободомыслия. Я почувствовала, что если подобное общество существует то я непременно должна быть его членом; я написала короткое письмо издателю «National Reformer».
«Для того, чтобы поступить в члены «национального общества свободомыслящих» нужно только быть в состоянии искренно признать четыре принципа, изложенные в «National Reformer». Это всякий может сделать, не признавая себя непременно атеистом. Говоря откровенно, мы не видим средины между полным признанием церковного авторитета во всем, как этого требует римская католическая церковь, и между самым крайним рационализмом. Если, рассмотревши еще раз основные принципы общества, вы сможете признать их, мы повторяем вам свое приглашение».
Я записалась в действительные члены общества и мое имя напечатано было в «National Reformer» 9-го августа. Я получила извещение, что лондонские члены могут получать членские свидетельства в научном клубе по воскресеньям вечером, и что их будет выдавать м-р Брэдло. Я отправилась туда 2 августа 1874 г. и это было моим первым посещением собрания свободомыслящих.
Зала была переполнена и как только пробил час, назначенный для лекции, раздались громкие рукоплескания, высокая мужская фигура быстро направилась из залы на эстраду и с легким поклоном в ответ на приветствия аудитории Чарльс Брэдло сел на свое место. Я поглядела на него с интересом; он изумил меня и произвел сильное впечатление. Серьезное, спокойное, сильное и благородное лицо, массивная голова, живые глаза, большой, открытый лоб – неужели это человек, которого мне описывали как неистового агитатора и невежественного демагога?
Он начал говорить спокойно и просто, и по мере того, как он развивал свою мысль голос его становился сильнее и отчетливее и наконец стал разноситься на всем протяжении залы как трубный звук. Хорошо знакомая с сюжетом, я могла оценить достоинства его изложения и видела, что его знания так же обширны, как блестяще его красноречие. Дар слова, страсть, сарказм, пафос, направленные на отрицание укоренившихся в английском обществе предразсудков производили сильное впечатление и громадная аудитория, увлеченная силой оратора, следила, притихнув и сдерживая дыхание, за его речью; после блестящего заключения еще несколько секунд длилось молчание и тогда только буря рукоплесканий сменила всеобщее напряжение.
Брэдло сошел с эстрады, держа в руках несколько свидетельств, оглянулся вокруг и вручил мне мое с вопросом: «Вы м-сс Безант?» затем он сказал, что ему хотелось бы поговорить со мной, дал мне книгу, которой пользовался во время лекции. Много времени спустя я спросила его, как это, никогда не видевши меня до того, он узнал меня и подошел ко мне. Он засмеялся и сказал, что сам не может объяснить причины, но что, взглянув на лица присутствовавших он был уверен, что именно я Анни Безант.
Со времени этой первой встречи в научном клубе началась дружба, длившаяся неизменной до тех пор, пока смерть не разорвала земных уз. Мы встретились друзьями, а не чужими; поняли друг друга с первого взгляда. Многим я обязана его дружбе и чувствую великую благодарность к его памяти. Некоторые из его советов навсегда остались в моей памяти. «Не говорите никогда», говаривал он, «что у вас есть определенный взгляд в каком-нибудь вопросе, пока вы не познакомились еще с самыми сильными возражениями против более близкого вам взгляда». «Не считайте себя основательно знающей какой либо предмет прежде, чем вы ознакомились с тем, что о нем было сказано самыми выдающимися умами». «Нельзя делать ничего дельного на общественном поприще, если не работать много дома над тем, о чем придется говорить перед слушателями». «Будьте самым строгим судьей относительно самой себя, прислушайтесь к своим речам и критикуйте их; читайте нападки своих противников и старайтесь отыскать заключающееся в них зерно правды». «Не теряйте времени на то, чтобы читать мнения, служащие отголоском ваших; знакомьтесь с взглядами, идущими в разрез с вашими и вы увидите такие стороны истины, которые прежде ускользали от вас».
Во все время нашей долголетней дружбы он был для меня самым строгим и в то же время наиболее дружески расположенным критиком: он доказывал мне, что людям нашей партии, стоящим по уму и знаниям многим выше тех, которыми мы руководим, крайне легко достаются неразборчивые похвалы и неразборчивое поклонение. Необходимо было поэтому, чтобы мы сами были своими строжайшими судьями, и были бы вполне уверены что основательно знакомы с предметом, который преподаем другим. Он спасал меня от поверхностности, к которой легко бы могла привести меня роковая легкость речи; когда я начала испытывать опьяняющее действие легко достигаемых похвал, его критика слабых пунктов, его нападки на слабую аргументацию, его утонченное образование были для меня неоценимой поддержкой, и все что есть хоть немного ценного в моей деятельности, в значительной степени результат его влияния, в одно и то же время и возбуждавшего и удерживавшего меня.
Одной из его самых привлекательных черт в частной жизни была его чрезвычайная любезность с женщинами. Внешняя изысканность манер казалась очень грациозной при его статной и массивной фигуре и была скорее чужестранной, чем английской чертой – англичане, вообще, за исключением тех, которые бывают при дворе, в высшей степени невежливы. Я его спросила раз, где он научился быть не по-английски вежливым и предупредительным в общежитии – он стоял с приподнятой шляпой, когда спрашивал что либо, хотя бы у горничной, или помогал даме садиться в экипаж. На мой вопрос он с легкой усмешкой ответил, что только в Англии он изгнан из общества. Во Франции, Испании и Италии его радушно принимали в самых высоких общественных сферах и возможно, что бессознательно он усвоил принятые за границей манеры. Кроме того, он совершенно не понимал различий в общественном положении; ему было абсолютно безразлично, говорит ли он с лордом, или с рабочим.
Наша первая беседа после встречи на собрании произошла несколько дней спустя в его маленьком кабинете в Turner Street, маленькой комнатке, заваленной книгами; эта обстановка совершенно не подходила к нему. Впоследствии я узнала, что он потерпел неудачу в делах из-за своих убеждений, и что, решивши избегнуть банкротства, он продал все свое имущество, за исключением книг; услал жену и дочерей в деревню, к своему тестю, а сам нанял две маленькие комнаты в Turner Street, где можно было устроиться очень дешево и задался целью выплатить все свои долги, явившиеся следствием его борьбы за религиозную и политическую свободу.