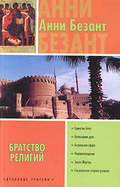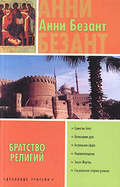Анни Безант
Исповедь
Глава III
Девичество
Весной 1861 г. мисс Марриат объявила о своем намерении поехать заграницу и попросила у моей матери позволения взять меня с собой. У маленького её племянника, которого она усыновила, сделался катаракт глаза, и она хотела повезти его к одному знаменитому окулисту в Дюссельдорфе. Эми Марриат отозвали домой после смерти её матери, которая умерла, родив сына; мисс Марриат усыновила ребенка, назвав его именем своего любимого брата Фредерика (капитана Марриата). Место Эми заняла девочка несколькими месяцами старше меня, Эмма Манн, одна из дочерей священника, женатого на мисс Стэнли, близкой родственнице или даже, если я не ошибаюсь, сестры мисс Мэри Стэнли, знаменитой сестры милосердия во время крымской кампании.
В течение нескольких месяцев мы усердно занимались немецким языком, чтобы знать более или менее хорошо язык страны, в которую собирались ехать; нас приучали также к французскому разговору, в котором мы упражнялись за обедом, так что мы не были совершенно «беспомощными иностранцами», когда двинулись в путь из доков Св. Екатерины и очутились на следующий день в Антверпене среди вавилонского смешения языков, как нам показалось с первого взгляда. Во что здесь превратился наш французский язык, который мы учились так тщательно произносить! Мы совершенно потерялись среди окликов кричащих и спорящих между собой носильщиков и не могли разобрать ни слова. Но мисс Марриат оставалась на высоте положения, будучи уже опытной путешественницей; её французский язык блестяще выдержал испытание и помог нам благополучно добраться до отеля. На следующий день мы отправились через Аахен в Бонн, прелестный городок, расположенный на границах живописной местности, волшебный вход в которую образует Роландеэк. В Бонне наше пребывание обошлось не без приключений. Тетя была пожилой девицей, которая видела во всех молодых людях волков, которых нужно не подпускать к её подрастающим ягнятам. Бонн был университетским городом, и в нем господствовало в то время пристрастие ко всему английскому. Эмма была полной, белокурой девушкой с нежным цветом лица и типичной в английских девушках веселостью и невинной шаловливостью; я же была худенькой, бледной брюнеткой, у которой настроения дикой веселости постоянно чередовались с крайней задумчивостью. В пансионе, где мы жили вначале, в «Chateau du Rhin», прелестном доме, выходящем на широкий голубой Рейн, жили случайно в то же время два сына герцога Гамильтона, маркиз Дуглас и лорд Чарльз с своим гувернером. Они занимали весь бель-этаж, а мы имели гостиную в нижнем этаже и спальни в верхнем. Юноши узнали, что мисс Марриат не любила, чтобы её «дети» разговаривали с кем-нибудь из мужской компании. Это открыло для них неистощимый источник забавы. Они парадировали на лошадях перед нашими окнами, отправлялись кататься верхом как раз тогда, когда мы выходили гулять и при нашем появлении снимали шапки и отвешивали глубокие поклоны; они подкарауливали нас на лестнице и почтительно желали нам доброго утра, ходили в церковь и становились так, чтобы видеть нашу скамью. При этом лорд Чарльз, обладавший способностью шевелить всей кожей черепа, двигал вверх и вниз своими волосами до тех пор, пока мы не могли сдерживать больше смеха. Через месяц все эти проделки заставили тетю покинуть прелестный «Château du Rhin» и поселиться в какой-то женской школе, к великому нашему неудовольствию; но и там она не нашла, покоя. Студенты преследовали нас повсюду, сентиментальные немцы с следами шпаг на лице нашептывали нам комплименты, проходя мимо; все это было невинным детским вздором, но строгая английская леди считала это «неприличным», и после трехмесячного пребывания в Бонне, нас отослали на каникулы домой в знак немилости. Но за эти три месяца мы сделали много прелестных экскурсий, взбирались на горы, катались по быстрому течению Рейна, бродили по живописным долинам. У меня осталась в памяти целая картинная галерея, в которую я могу забраться, когда хочу представить себе что-нибудь прекрасное; я вспоминаю тогда о месяце, серебрящем Рейн у подошвы Драхенфельза, о задернутом туманом острове, где жила красавица, навсегда освященная любовью Роланда.
Несколько месяцев спустя мы приехали к мисс Марриат в Париж, где прожили семь месяцев среди удовольствий и интересных занятий. По средам и субботам мы были свободны от уроков и проводили долгие часы в картинной галерее в Лувре, изучая собранные туда отовсюду образцы искусства. Не было ни одной красивой церкви в Париже, которую бы мы не посетили за эти недели; церковь St. Germain de l'Anxerrois – та, из которой был подан сигнал в Варфоломеевскую ночь – была моей любимой; в ней сохранились самые совершенные по глубине и прозрачности красок цветные стекла. Величественная краса Notre Dame, несколько крикливое великолепие Sainte Chapelle, внушительный мрачный вид St. Roch были изучены нами до подробностей. Кроме того, мы любили смешиваться с веселой толпой, двигающейся по Елисейским полям, по направлению к Булонскому лесу, гулять по Тюльерийскому саду и взбираться на все памятники, откуда открывался вид на Париж. Империя была тогда в самом разгаре своего блеска и мы часто любовались, глядя на блестящий конвой, окружавший императорскую коляску, на их развевающиеся и блестящие на солнце плюмажи; в самой же коляске сидела обаятельно прекрасная императрица рядом с мальчиком, который робко, но с какой-то особенной грацией кланялся приветствующей его толпе.
Весной 1862 г. епископ из Огайо был проездом в Париже, и м-р Форбс, тогдашний английский пастор при церкви в Rue d'Aguesseau, устроил мне конфирмацию у него. Я уже упоминала раньше, что находилась в то время под сильным религиозным влиянием; за исключением небольшого припадка легкомыслия во время путешествия по Германии, я была истинно набожной девушкой. Я считала театры (ни в одном из которых не была ни разу) западней, устроенной дьяволом для заманивания неосторожных душ; на балы я твердо решила никогда не ходить и готовилась «пострадать за веру», если меня будут заставлять поехать на вечер. Я таким образом совершенно готова была исполнить обет, произнесенный от моего имени при крещении, и отрешиться от света, от плоти и от соблазна с решительностью и искренностью, равными только моему глубокому неведению того, от чего я отказывалась с такой готовностью. Конфирмация была для меня событием, полным глубокого значения; старательная подготовка, долгие молитвы, священный трепет при мысли об «увеличенных в семь раз дарах Духа», снисходящих при «возложении рук» – все это сильно возбуждало меня. Я с трудом сдерживала себя опускаясь на колени у подножия алтаря; мягкое прикосновение руки престарелого епископа к моей наклоненной голове показалось мне прикосновением крыла Святого Духа, небесного Голубя, присутствие которого призывалось такими горячими молитвами. Что может быть легче, думается мне при этих воспоминаниях, чем сделать молодую, чуткую душой девушку – глубоко набожной?
Пребывание в Париже пробудило в моем религиозном чувстве одну черту, до тех пор не проявлявшую себя. Я поняла наслаждение, которое доставляют красота красок, благоухание и блеск в богослужении, облекая эстетическое удовольствие покровом благочестия. Картинные галереи Лувра, увешанные мадоннами и святыми, католические церкви с их атмосферой, пропитанной ладаном и полной звуков чудной музыки, – все это внесло новую радость в мою жизнь, более живой колорит в мои мечты. Незаметным образом холодность и трезвость, с которыми я не могла никогда сродниться в протестантском культе, сменились большей теплотой и блеском; идеальный небесный король моего детства получил более трагические очертания бога печали, более глубокую привлекательность страдающего Спасителя человечества. «Christian Year» Кебля сменил «Потерянный Рай», и при переходе из детского возраста в девичий, все более глубокие порывы моей души проявлялись на религиозной почве. Мать моя не позволяла мне читать романов и мои мечты о будущем почти совсем не были окрашены обычными надеждами и опасениями девушек, впервые открывающих глаза на свет, в который они собираются вступить. Я постоянно думала и мечтала о тех днях, когда молодые мученицы удостаивались видеть в блаженных видениях короля мучеников, когда кроткой, святой Агнесе явился её небесный жених и ангелы спускались, чтобы нашептывать небесные звуки на ухо вдохновенной св. Сецилии. «Почему бы это не могло произойти и теперь»? – спрашивала постоянно моя душа и я вся уходила в эти мечты, наиболее счастливая лишь наедине сама с собой.
Лето 1862 года мы провели вместе с мисс Марриат в Сэйтмуте и она с своим обычным умом вела наши занятия так, чтобы подготовить нас к самостоятельной работе без помощи учительницы; она все менее и менее руководила нашим учением я помогала нам только в затруднительных случаях. Помню, что я раз стала с грустью упрекать ее за то, что она «так мало учит меня теперь»; на это она мне ответила, что я уже достаточно взрослая для самостоятельной работы, и что нечего мне «держаться за передник тетеньки» всю жизнь. Я отлично сознаю теперь, что постепенное ослабление надзора и преподавания было одним из самых разумных и хороших поступков этой благородной женщины по отношению к нам. Принято обыкновенно держать девушек в «классной», на попечении гувернанток, до самого момента их вступления в свет; затем, вдруг, их предоставляют самим себе, и, застигнутые врасплох этой неожиданной свободой, они тратят попусту время, которое могло бы иметь неоценимое значение для их интеллектуального развития. В последнее время, открытие университетов женщин устранило эту опасность для более предприимчивых девушек; но в то время, о котором я пишу никто еще не помышлял о переменах, готовившихся в скором будущем в деле высшего женского образования.
Зиму 1862-63 г. мисс Марриат провела в Лондоне и в течение нескольких месяцев я жила там с нею, посещая прекрасные лекции m-r Роша по французскому языку. Весной я вернулась домой в Гэрроу и оттуда ездила каждую неделю на лекции; когда же они кончились, тетя сказала мне, что теперь все уже сделано, что она могла сделать для моей пользы и что пора мне самой попробовать свои силы.
Она с таким успехом выполнила свою задачу в деле моего воспитания, что окончание домашнего обучения сделалось для меня лишь исходным пунктом для еще более усердной работы, при чем занятия мои направлены были теперь на привлекавшие меня сильнее всего вопросы. Я продолжала, кроме того, занятия немецким языком с опытным учителем, и посвящала довольно много времени музыке под талантливым руководством м-ра Джона Фармера, заведующего музыкальным преподаванием в Гэрроуской школе. Моя мать страстно любила музыку и её любимыми композиторами были Бетховен и Бах; я играла в то время почти все сонаты Бетховена и фуги Баха. Мендельсоновские «Lieder ohne Worte» были для меня развлечением от более серьезной музыки и мы с матерью проводили много счастливых вечеров над стройными и торжественными мелодиями слепого титана и сладкой музыкой немецкого оратора без слов. Музыкальные вечера были любимым развлечением в то время у нашего кружка в Гэрроу и моя беглая игра обеспечивала мне радушный прием на каждом из них.
Освобожденная от классных занятий в шестнадцать с половиной лет и будучи единственной дочерью в доме, я могла распоряжаться своим временем как хотела, за исключением нескольких часов в день, посвящаемых музыке в угоду матери. С этого времени и до того, как я сделалась невестой в 19 лет, жизнь моя текла плавно, при чем одно течение, видимое всем, блестело в солнечном свете, а другое таилось в глубине, глубокое и сильное. Что касается моей внешней жизни, то трудно себе представить девушку в более светлой и счастливой обстановке; утром и днем я занималась, руководствуясь только своим желанием в выборе занятий, а остальную часть дня проводила в физических упражнениях, прогулках, катаниях верхом, и иногда на вечерах, на которых всегда отличалась своей веселостью. Я с увлечением занималась стрельбой из лука и получила на одном турнире приз в виде золотого кольца; крокет был тоже одной из любимых моих игр. Моя мать несомненно баловала меня во всем, что касалось мелких шероховатостей жизни. Она никогда не допускала, чтобы меня касалось какое либо огорчение, и старалась, чтобы все заботы выпадали на её долю, все радости на мою. Я тогда и не подозревала, а узнала только гораздо позже, что жизнь её была полна постоянных забот. Тяжесть содержания моего брата сначала в школьные, потом в университетские годы давила ее беспрестанно, и она часто бывала в серьезных денежных затруднениях. Адвокат, которому она вполне доверяла, систематически обкрадывал ее, удерживая для себя взносы, которые она делала для уплаты по разным обязательствам и таким образом постоянно выманивал у неё деньги. Но, несмотря на это, все, что нужно было для меня, своевременно доставлялось. Собиралась ли я на вечер, мне никогда не приходилось думать о том, что я надену до минуты, когда пора было одеваться; тогда я находила в своей комнате все, что нужно было до самых мелочей. Она сама всегда причесывала мои волосы, падавшие, когда их расплетали, густыми кудрями до колен; она не допускала, чтобы чья либо рука помимо неё надевала мне платье и прикрепляла цветы; когда же иногда я просила ее позволить мне помочь ей пришивать кружева или сделать какую-нибудь другую мелочь, она целовала меня и отсылала играть или читать, говоря, что её единственная радость в жизни заботы о её «сокровище». Увы! как легкомысленно принимается самопожертвование, делающее жизнь столь гладкой, прежде чем опыт показывает, что значит жизнь без ограждающего крыла матери. Мое детство и юность были так ограждены от всякой тени заботы или печали, которую могла бы предотвратить любовь, что только вид нищего возбуждал во мне представление о тяжелых сторонах жизни. Всю радость тех счастливых лет я принимала не то чтобы с неблагодарностью, а с таким же бессознательным отношением к счастью, как к солнечному свету, озаряющему меня. Я страстно любила мою мать, но не знала, скольким я ей обязана, до тех пор пока не вышла из под её нежного попечения, оставив родной дом. Благоразумно ли подобное воспитание? Право не знаю. Оно придает самым обыкновенным жизненным затруднениям характер непреодолимых преград, когда начинается самостоятельная жизнь, так что возникает вопрос, не лучше ли знакомить с суровой действительностью в самые молодые годы. И все таки как хорошо иметь за собой отрадную юность; по крайней мере сохраняется в памяти сокровище, которого никто не может отнять во время тяжелой борьбы позднейшей жизни. «Солнечным лучом» звали меня в эти светлые дни веселых игр и серьезных занятий. Занятия же эти указывали на направление моих мыслей и были в связи с скрытой жизнью моей души. Главным моим чтением сделались теперь отцы церкви; я изучала послания Поликарпа, Барнабу, Игнатия и Климентия, комментарии Хризостома, исповедь св. Августина. На ряду с этим я читала произведения Пусэя, Лиддона Кебля и других не столь великих светочей, и восхищалась величием католической церкви, существующей веками, построенной на вере апостолов и мучеников, простирающейся от времени Христа до наших дней – «Единый Спаситель, единая Вера, единое Крещение» – и я сама дочь той же святой церкви. Скрытая жизнь все более крепла во мне, питаемая подобным чтением; еженедельное причастие сделалось центром моей религиозной жизни с её мечтами, доходящими до экстаза, с увеличивающимся сознанием непосредственного единения с Богом. Я постилась, соблюдая предписания церкви, и иногда бичевала себя, чтобы убедиться, вынесу ли я физическую боль, если обрету великое блаженство следования по следам святых мучеников, и всегда Христос был центром, около которого группировались все мои надежды и стремления; мне казалось иногда, что страстность моего преклонения должна заставить его снизойти с своего небесного престола и явиться мне в том виде, в котором я чувствовала его невидимое присутствие в душе. Служить Ему путем служения Его церкви – таков был рисовавшийся мне идеал жизни, и мысли мои начинали останавливаться на разных формах «жизни для Бога», в которой я могла бы доказать свою любовь жертвами и обратить мое страстное обожание в активную деятельность.
Оглядываясь теперь на свою прошлую жизнь, я вижу, что основным её мотивом среди всех ошибок, слепых заблуждений и призрачных увлечений, была жажда принести себя в жертву чему-нибудь более высокому, чем собственное я; это чувство было таким сильным и настойчивым, что я вижу в нем теперь стремление, принесенное из предыдущего существования и властвующее над настоящим. Доказательством этого служит тот факт, что следование влечению не являлось результатом сознательного акта воли, принуждающей себя к смирению и к горестному отречению от чего-нибудь дорогого сердцу, а радостным следованием по легчайшему пути; приношение жертвы казалось привлекательнее всего другого и не принести её было равносильно отрешению от самых глубоких стремлений души, чувству оскверненности, бесчестия. И в этом заключается заблуждение многих великодушных голосов, раздававшихся в последнее время с такой убедительностью в мою защиту. Старания служить другим не были для меня трудными подвигами самоотречения, а, напротив, были следованием непреодолимым влечениям. Мы не превозносим мать, которую сила любви заставляет кормить плачущего ребенка и согревать его у своей груди; скорее мы готовы были бы осудить ее, если бы ее отвлекла от плача ребенка какая-нибудь пустая забава. И то же самое можно сказать про всякого, кто не закрывает ушей, чтобы не слышать плачущих людей; их меньше можно превозносить за то, что они стараются помочь, чем порицать, если бы они отстраняли себя от чужих страданий. Я знаю теперь, что именно этот плач страдающих и возбуждал деятельность моей души в течение всей жизни и что я родилась с готовностью узнать о людских страданиях от тех, которые до меня приносили жизнь на служение людям. Эти жизни прежних служителей человечества вызывали передо мною в детстве картины мученичества, они же преисполнили благочестия подрастающую девушку, заставили взрослую женщину идти навстречу насмешкам и ненависти, и привели ее, наконец, к теософии.
Пасха 1866 г. была знаменательной эпохой в моей жизни. Я познакомилась с пастором, за которого вышла потом замуж, и победила первое возникшее у меня религиозное сомнение. За год до того, на Рождестве, открыта была маленькая миссионерская церковь в очень бедном квартале Лондона; она находилась недалеко от дома моего дедушки в Альберт-сквере, и я вместе с одной из моих теток посвящали довольно много времени заботам о маленькой церкви. К Пасхе мы украсили ее весенними цветами, росистыми подснежниками, душистыми фиалками и желтыми цветками лесных нарциссов, доставив этим громадное удовольствие теснящемуся в церкви бедному люду и лондонским детям, из которых многие никогда не видели цветка в своей жизни. Там я познакомилась с пастором Франком Безантом, молодым человеком, который только что кончил университет в Кембридже, вступил в духовное звание и сделался настоятелем маленькой миссионерской церкви. Странно, что я в одно и то же время встретила впервые человека, за которого должна была выйти замуж, и испытала первые проявления религиозных сомнений, которым суждено было впоследствии расторгнуть мой брак.
Сомнение мелькнуло у меня как внезапно взвившаяся пред моими глазами шипящая змея… Я поборола его в одну минуту, потому что сомнение было для меня грехом, и сомнение в самый канун Пасхи еще более тяжким преступлением. Я поспешила убедить себя, что эти кажущиеся противоречия необходимы как испытания силы веры и я заставляла себя повторять знаменитое Тертулиановское «Credo quia impossible» до тех пор, пока из машинального повторения оно не превратилось, наконец, в торжествующую уверенность. Я напомнила себе слова св. Петра, говорившего, что в посланиях Павла есть много непонятного для невежественных и непостоянных, идущих к своей собственной погибели. Я с ужасом решила, что мое невежество и непостоянство должно быть безгранично, и я наложила на себя лишний пост в наказание за свое невежество и отсутствие твердости веры. Я вспоминала о том, как апостол Иоанн бежал из города при въезде в него Керинта, боясь, чтобы кровли не обрушились на еретика и не задавили кого-нибудь, стоящего вблизи него, и я глядела на еретиков с священным трепетом. Чтение Пусэя внушило мне глубокую ненависть к ересям и мне хотелось успокоиться вместе с ним на вере, которая должна быть старой, потому что она вечная, и должна быть неизменной, потому что она истинна. Я даже не хотела читать сочинений любимца моей матери, Стэнли, потому что он не был непоколебимым и потому что Пусэй осуждал его «неопределенность выражений, уничтожающую всякую определенность смысла». Можно себе представить в виду всего этого, какой болью отозвалось во мне мое первое сомнение, и как я поспешила сразить, похоронит его и уравнять землю над его могилой. Но оно прошло над моей душой и оставило в ней след.