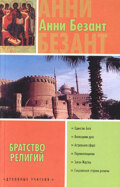Анни Безант
Исповедь
Глава X
Парламентская кампания м-ра Брэдло
Наступил 1880 год, знаменательный долгой избирательной кампанией м-ра Брэдло. После длинной и тяжелой борьбы, он был избран вместе с м-ром Лабушером, депутатом от Нордгемптона во время общих выборов, и таким образом была одержана победа, стоившая огромных трудов. Я всю жизнь не забуду день выборов 2-го апреля 1880 года!
В четыре часа дня м-р Брэдло вошел в комнату в гостинице «George», где сидели его дочери вместе со мной и бросился в кресло с словами: «все уже сделано; всех наших уже избирали». Последовали длинные, тяжкие часы ожидания результатов, и когда решительная минута приблизилась, мы подошли к окну, вслушиваясь в глухой гул толпы и зная, что последует или взрыв аплодисментов, или крики бешенства, когда объявлен будет результат выборов с крыльца городской думы. Толпа вдруг притихла; мы поняли, что наступил решительный момент и затаили дыхание; затем раздался гул, дикие крики радости и восторга толпы, приветствовавшей своего избранника; все махали шляпами, шапками и платками, шумное ликование доходило до неистовства, и пронзительные крики «Брэдло депутат Нордгемптона!» звучали беспредельным торжеством.
А он оставался спокойным, несколько взволнованный взрывом всеобщей любви и радости, молчаливый, чувствуя тяжесть новой ответственности более, нежели радость победы. А затем, на следующее утро, когда он уезжал из города, толпа мужчин и женщин, целое море голов покрывало путь от гостиницы до вокзала; у каждого окна толпились зрители, цвета Брэдло развевались повсюду, рабочие пробивали себе дорогу, чтобы подойти к нему поближе, дотронуться до него, отовсюду раздавались крики: «он наш, Чарли; мы добились его и не выпустим его». Как они его любили, как радовались победе, одержанной после двенадцати лет борьбы.
Увы! Мы думали, что борьба кончена, а она только начиналась; мы думали, что наш герой одержал победу, а перед ним была еще более упорная, более жестокая борьба. Правда, и она кончилась его победой, купленной, однако, уже ценою жизни; победа была окончательной. полной, но лавровый венок украшал уже гроб.
Взрыв негодования со стороны евангелического населения был так же велик как восторг друзей Брэдло, но до этого нам было мало дела. Ведь он был законно избранным депутатом и ничто не могло, как нам казалось, нарушить его права. Заседания парламента должны были начаться 29 апреля, а приведение к присяге на следующий день: м-р Брэдло условился с несколькими другими из свободомыслящих депутатов настаивать на праве замены присяги торжественной декларацией. Он полагал, что по некоторым актам 1869 и 1870 гг., право замены клятвы декларацией было очевидным; он готов был принести клятву, если это необходимо, но полагая, что депутату в этом случае предоставляется выбор, он предпочитал форму заверения. 3 мая он предстал пред палатой и, по свидетельству сэра Ерскина Мэ, секретаря палаты, подошел к столу и передал секретарю письменное заявление следующего содержания: «Достопочтенному председателю (Right Honourable Speaker) палаты общин. Я нижеподписавшийся, Чарльз Брэдло, имею честь покорнейше просить разрешения дать торжественную декларацию в виду того, что закон разрешает заменить ею клятву (Подпись). Чарльз Брэдло». На вопрос секретаря, чем он обосновывает свое заявление, он ответил: «на дополнительных актах 1869 и 1870 гг.». Секретарь доложил председателю о заявлении депутата и председатель разрешил м-ру Брэдло обратиться с запросом к палате. Заявление м-ра Брэдло было очень коротким. Он опять сослался на вышеуказанные акты и прибавил: «я много раз давал декларации в течение последних 9-ти лет в высших судебных инстанциях Англии. Я готов сделать то же и сегодня». После этого в парламенте произошла сцена, в которой Брэдло держал себя просто, спокойно и с большим достоинством. М-ра Брэдло попросили временно удалиться из залы и, после его ухода, избрана была комиссия для решения вопроса о декларации; эта комиссия высказалась против декларации и сделала доклад об этом 20 мая. На следующий день м-р Брэдло предстал пред палатой, чтобы дать присягу по предписанной законом форме, но против этого протестовал сэр Генри Дрюмон Вольф и дело перешло на рассмотрение новой комиссии.
М-р Брэдло изложил свое дело комиссии и заявил, что принятие присяги вменяется ему в обязанность законом, при чем прибавил следующее: «Какую бы формальность я ни совершил, какую бы присягу ни принес, я бы считал нравственной обязанностью исполнить ее. Я бы не совершал никаких формальностей, не произносил бы никаких клятв, если бы не считал их ненарушимыми». В том же духе написано было его письмо в «Times», в котором он говорил, что будет считать себя связанным, если не буквальным смыслом присяги, то тем духом, который яснее выразился бы в декларации, если бы ему позволили произнести ее. Комитет высказался против него и 23 июня он появился на трибуне палаты и произнес речь до того сдержанную, благородную и полную достоинства, что члены палаты вопреки своему обыкновению утратили хладнокровие и покрыли его слова рукоплесканиями. В дебатах, которые предшествовали его речи, противники м-ра Брэдло забыли самые обыкновенные правила приличия и стали распространять совершенно не идущие к делу клеветы на меня. М-р Брэдло ответил на это строгим порицанием подобной неделикатности. «Я отвечаю за самого себя» – сказал он – «и имею что ответить, но считаю бестактным и непростительным упоминание какого-нибудь другого имени, кроме моего, с целью принести мне вред». Эти слова встретили всеобщее одобрение. Он ссылался всецело на законы.
«Я еще не произнес – и надеюсь, что никакое возбуждение не заставит меня произнести ни одного слова, которое обнаруживало бы хоть тень желания встать в оппозицию с палатой. Я всегда учил, проповедовал и верил в главенство парламента, и из-за того, что в данную минуту голос его может оказаться враждебным мне, я не стану отрицать принципов, которые всегда признавал; но я утверждаю, что одна палата – хотя бы и наиболее важная, каковой я всегда считал эту – не имеет права отменять закона. Закон дает мне право подписать декларацию, заменяющую клятву, и занять место там (он движением руки указал на скамьи). Я не отрицаю, что с той минуты, как я начну заседать, вы можете изгнать меня без всякого другого повода, кроме вашей доброй воли. Это ваше право. Вы имеете полную власть над своими членами. Но вы не можете изгнать меня до тех пор, пока я не буду говорить с моего законного места не как проситель, каковым я являюсь теперь, а как имеющий право голоса, подобно всякому другому члену палаты… Я готов допустить, если хотите, что все мои убеждения ошибочны и заслуживают наказания. Пусть же закон карает их. Если же вы говорите, что закон этого не может сделать, то вы утверждаете тем самым, что сами не имеете на это права, и я взываю к общественному мнению против несправедливости подобного нарушения закона. Прошу извинения у вас, господин председатель, и у палаты, если выражаюсь слишком резко и если мои слова кажутся непочтительными. В случае вашего отказа, мне придется выразить решительный протест, но прежде чем совершен будет роковой шаг, который уронит и мое достоинство и ваше, – мое не имеет большой цены, но вы представляете собой сословия Англии, – я прошу вас без угроз и без всякого намерения придавать большую цену себе, но как один человек против шестисот, оказать мне ту справедливость, которую оказывали мне судьи, когда я говорил пред ними».
Но никакое красноречие, никакая просьба о правосудии не могла сломить торийского ханжества, и палата постановила отказать ему в произнесении декларации. Когда председатель вызвал к столу м-ра Брэдло и сообщил ему решение, м-р Брэдло ответил твердым голосом: «Я почтительно отказываюсь подчиниться резолюции палаты, потому что эта резолюция идет против закона». Председатель обратился к палате за полномочиями, и после некоторых прений – палата высказалась за подтверждение отказа. Еще раз дано было приказание, еще раз произнесен отказ и дежурному офицеру дано было приказание удалить его из залы заседания. Странное получилось зрелище, когда маленький капитан Госсэ подошел к депутату геркулесовских размеров и все задавали себе вопрос, может ли приказание быть исполненным, но Чарльз Брэдло не был человеком, способным на грубое сопротивление, и легкое прикосновение к его плечу было для него проявлением авторитета, которому он подчинялся. С серьезным видом последовал он за маленьким капитаном и был помещен в часовой башне парламента, где должен был выжидать решения палаты относительно него; это был один из самых странных узников, потому что в его лице заключен был в оковы закон.
В специальном номере «National Reformer», дающем отчет о заседаниях комиссии о заключении м-ра Брэдло в башню, я нахожу следующие слова, написанные мною тогда: «Партия ториев, пораженная на выборах народным голосованием, восторжествовала на один момент в парламенте. Человек, избранный нордгемптонскими радикалами, был заключен в тюрьму по требованию ториев только из-за того, что он хотел выполнить обязательства, возложенные на него его избирателями. В ту минуту, как этот номер газеты пойдет в печать, я буду в Вестминстере, чтобы получить от него указания, как вести затеянную парламентом борьбу с избирательной массой». Я застала его усердно пишущим, приготовленным ко всякому исходу его дела, готовыми, к долгому заключению. На следующий день появился маленький, написанный мною памфлет «Создатели законов и нарушители их», и в нем я обращалась к общественному мнению. рассказавши то, что произошло, я в заключение говорила: «Пусть выскажется общество. Гладстон и Брайт стоят за свободу, и поддержка, в которой им отказывают в палате, найдется извне. Нечего терять времени. Пока мы бездействуем, представитель народа незаконным образом содержится в тюрьме. Нордгемптону нанесено оскорбление и нарушение прав одной общины равняется вызову всем другим. Свобода выборов обусловливает нашу свободу; от свободы совести зависит прогресс, землевладельцы и лорды торийского лагеря бросили вызов народу и мерятся теперь силами с массой. Пусть же масса выскажется». Но в воззваниях не было никакой надобности в то время, потому что сама по себе расправа с м-ром Брэдло вызвала такой взрыв негодования, что на следующий день узник был освобожден и посыпались со всех сторон протесты против бесцеремонного поведения палаты.
В Westminster Hall собралось 4,000 человек поздравлять м-ра Брэдло с его освобождением. Менее, чем в неделю 200 митингов выразили свой протест. Либеральные ассоциации, клубы, общества присылали адреса, преисполненные гнева и требований правосудия. На Трафальгар-сквере собралась самая большая толпа – по свидетельству газет – когда либо собиравшаяся там; в следующий четверг – митинг состоялся в понедельник – палата общин отказалась от своего прежнего решения, и разрешила ему, в пятницу 2-го июля, произнести декларацию и занять свое место. «Наконец, кончена тяжкая борьба», писала я, «и закон и справедливость восторжествовали». Палата общин, – отвергнув резолюцию ториев и ультра-монтанской партии, восстановила свою репутацию в глазах света. Это было торжеством закона, произведенным усилием честных людей – хотя и различных оттенков убеждения, но с одинаковой верой в справедливость – над торийским презрением к закону и ультрамонтанским ханжеством. Это было восстановлением гражданской и религиозной свободы при самых тяжелых обстоятельствах, доказательством, что палата общин создание народа, а не аристократический клуб, имеющий в своих руках право принять или не принять члена.
Борьба между Чарльзом Брэдло и его преследователями перенесена была теперь в область судебных разбирательств. Как только он занял свое депутатское место, против него возбуждено было преследование за то, что он вотирует, не будучи приведен к присяге; это было началом томительной кампании, которую затеяли побежденные им враги, чтобы заставить его отказаться от депутатства, доставшегося ему столь дорогой ценой. В течение долгих месяцев м-р Брэдло успешно боролся, выступая лично против каждого из своих частных обвинителей; нападки эти все умножались, но он продолжал бороться, доводил разбирательства до палаты лордов и там одерживал победу. Но подобное торжество стоило ему столько здоровья и стольких денежных издержек, что он, наконец, ослабел физически и впал в долги. В самом деле, за это время ему не только приходилось состязаться на суде и исполнять свои парламентские обязанности, но ему приходилось еще зарабатывать себе пропитание чтением лекций и писательством; таким образом, ночи, свободные от парламентских заседаний, он проводил за неустанной работой или в переездах из города в город. Многие из сраженных им врагов обращали оружие против меня, надеясь этим причинить ему огорчение. Так, адмирал сэр Джон Гэй из Вийтона собирался выступить против меня до того грубо, что «Scotsman» и «Glasgow Herald» отказались печатать его заметки.
25 августа я очутилась в Брюссел, куда отправилась вместе с мисс Брэдло на «Интернациональный конгрессе свободомыслящих». Это был очень интересный конгресс, в котором принимал участие, между прочим, д-р Людвиг Бюхнер. Там положено было основание «интернациональному союзу свободомыслящих», который много содействовал единению свободомыслящих в различных государствах и устраивал интересные конгрессы в следующие годы в Лондоне и Амстердаме; но кроме этих съездов, он ничего не устроил и выказал отсутствие жизненности и энергии. В сущности, партии свободомыслящих в каждой стране приходилось так много работать, чтобы создать себе положение, что на интернациональную организацию она могла тратить лишь очень немного времени и труда. Что касается лично меня, то знакомство с д-ром Бюхнером привело к интересной переписке и с его согласия я перевела 14-ое издание его «Kraft und Stoff» и несколько других его трудов. Эта осень 1880 года ознаменовалась разгаром борьбы либерального правительства против ирландских вожаков и я была сильно занята пропагандой в английском обществе истинного понимания ирландских дел, даже осмеливаясь идти в этом отношении против принципов столь высокопочитаемого человека, как м-р Гладстон. Дело это было очень трудное, потому что много резкого говорилось против Англии и всего английского; но я показывала наглядными цифрами, рассматривая экономическое положение всех графств Англии, что жизнь и собственность находятся в гораздо большей безопасности в Ирландии, чем в Англии, что в Ирландии совершается удивительно малое число преступлений, за исключением тех, которые порождаются аграрными распрями, и приходила тем самым к заключению, что и в этой области все преступления исчезли бы, если бы закон установил отношения между поземельным собственником и фермером и положил бы тем самым конец беспощадным изгнаниям несостоятельных фермеров и тем страшным поступкам, к которым приводит отчаяние и месть.
Моя осенняя работа разнообразилась еще преподаванием в естественно-научных классах и диспутами с одним представителем англиканской церкви; кроме того, я потеряла много времени из-за операции, приковавшей меня к постели на три недели и принесшей мне пользу лишь в том отношении, что я научилась писать лежа и сделала в таком положении значительную часть перевода Бюхнера. При этом случае я не могу не отметить то, что мне кажется несомненным по отношению к сильной работе. Самый напряженный труд не убивает человека. Я нашла в «National Reformer», 1880 г., следующую заметку м-ра Брэдло: «нечего и повторять, до того этот печальный факт несомненен, что, по мнению лучших своих друзей, м-сс Безант слишком много работала за последние два года». Теперь уже 1893 г. и 13 лет, прошедшие с тех пор, полны непрерывной работы, и до сих пор я работаю без конца и чувствую себя прекрасно. Просматривая «National Reformer» за все эти годы, я прихожу к убеждению, что эта газета имела большое воспитательное значение для общества. М-р Брэдло очень определенно и ясно трактовал политические и теологические вопросы; д-р Эвелинг блестяще поставил научный отдел; на мою долю выпадало много дидактической работы по вопросам политической и национальной этики в сношениях Англии с более слабыми нациями. Мы всей душой отдавались труду и оказывали несомненное влияние на установление более высокого понимания истинной нравственности.
Весной 1881 г. апелляционный суд подтвердил приговор, лишающий м-ра Брэдло права на депутатство из-за не принесения присяги, и его место объявлено было вакантным; но Нордгемптонский округ снова избрал его, несмотря на чудовищные клеветы, взводимые на него врагами, и он был прав, утверждая, что это были самые тяжелые и горькие для него выборы в жизни. Его деятельность в парламенте создала ему громадную популярность во всей Англии, и он повсюду признавался большой силой; вследствие этого, к ненависти клерикалов присоединился еще страх ториев, и старания удалить его из парламента усилились вдвойне.
Он был введен в палату общин м-ром Лабушером и м-ром Бертом как новый член парламента; но тогда выступил сэр Стафорд Норскот и, после долгих прений, заключавших в себе также длинную речь м-ра Брэдло, ему было отказано большинством тридцати трех голосов в праве принести присягу и занять место на скамьях палаты. После долгих волнений, в течение которых. м-р Брэдло отказывался удалиться и палата не решалась применить насилия, заседание было отложено; наконец, правительство предложило внести билль о замене присяги декларацией, и м-р Брэдло обещал, с согласия своих избирателей, обождать решения палаты относительно билля.
Тем временем организована была лига для защиты конституционных прав и агитация в стране все разрасталась. Куда бы м-р Брэдло ни приезжал для организации митингов, его ждала громадная толпа – а он путешествовал с одного конца Англии в другой – и его воззвания к справедливости находили живой отклик. 2-го июля, вследствие препятствий со стороны ториев, м-р Гладстон написал м-ру Брэдло, что правительство отказывается внести билль о декларации; это заявление побудило м-ра Брэдло явиться опять в палату общин, и он назначил для этого день 3-го августа, для того, чтобы ирландский аграрный билль смог бы пройти без промедления из-за его избрания. Парламент был окружен полицией в этот день, большие ворота заперты, полицейские отряды помещены внутри здания и в течение целого июля продолжалось осадное положение. 2-го августа состоялся многолюдный митинг на Трафальгэр-сквере; там присутствовали депутаты ото всех графств Англии и даже из Эдинбурга, и в среду, 3-го августа, м-р Брэдло отправился в парламент. Последние его слова ко мне были: «народ верит вам более, чем кому либо, кроме меня; что бы ни случилось, помните, что бы ни случилось, не допускайте толпы до насильственных действий; и надеюсь, что вы сумеете удержать их в границах». До дверей парламента он дошел с д-ром Эвелингом, затем отправился один во внутрь. Дочери его пошли вместе со мной и с несколькими сотнями людей, несущих с собой петиции – по десяти человек на каждую петицию; каждую депутацию из десяти человек пересчитывали очень тщательно и тогда только позволяли проходить через ворота, открытые только так, чтобы пропускать по одному человеку. Таким образом, мы пробрались до Westminster Hall, где остановились ждать у входа в рекреационную залу.
Полицейский чиновник подошел к нам и приказал удалиться. Я вежливо заметила ему, что мы имеем право быть здесь. На это последовал драматический окрик: «четверых полицейских сюда». Они явились, стали глядеть на нас, а мы на них. «Мне кажется, что вам следовало бы поговорить с инспектором Денингом прежде чем прибегать к насильственным мерам», спокойно заметила я. Они согласились с этим, и чрез несколько минут явился инспектор; убедившись, что мы стоим там, где имеем право, и никому не мешаем, он сделал выговор своим слишком усердствующим подчиненным и они удалились, оставив нас в покое. Инспектор Денинг был в самом деле очень тактичный и обходительный человек, и вообще во всей этой истории, полиция, охранявшая парламент, вела себя прекрасно. Даже когда ей приказано было напасть на м-ра Брэдло, она старалась по возможности избегать насилия. Грубость и жестокость дальнейших сцен была уже виной м-ра Эрскина, сержанта залы заседаний, и его приставов, выказавших истинное зверство. Д-р Эвелинг писал в то время по личным впечатлениям следующее: «Полицейским тяжело было выполнять свой долг; как люди смелые, они сочувствовали смелости Брэдло. Они только точно исполняли приказания, затем выказывали большое добродушие». Постепенно толпа подателей петиций все более росла; слышался глухой ропот, потому что неизвестно было, что делалось в зале заседания, а все эти люди были глубоко преданы своему «Чарли». Все они были в большинстве случаев уроженцы севера Англии, настойчивые и независимые по природе. Они полагали, что имеют право пройти в залу, и вдруг, по импульсу, который может вдруг воодушевить целую толпу на общее дело, раздались дружные крики: «петицию, петицию! мы требуем справедливости!» и вся толпа хлынула к дверям, приступая к полиции, охранявшей вход. У меня промелькнули в голове слова м-ра Брэдло: «я полагаюсь на вас; вы удержите их в границах», и как только полиция двинулась навстречу толпе, я очутилась между двумя лагерями, избрав позицию на верхней ступени лестницы, чтобы каждый человек в толпе мог видеть меня. Когда они отступили на несколько шагов, пораженные моим появлением здесь, я стала убеждать их держаться спокойно ради м-ра Брэдло, и хранить для него спокойствие, которое он так просил не нарушать. Мне потом передавали, что полиция стала смеяться, когда я бросилась вперед, – они сочли безумием мою попытку дать отпор устремившейся вперед толпе; но я отлично знала, что друзья м-ра Брэдло не пойдут против меня, и когда движение толпы сразу остановилось, полиция перестала смеяться и отошла, предоставив мне действовать по-моему усмотрению.
Толпа отступала с недовольным видом, с трудом удерживая себя, обуздывая свое негодование, и делая это только ради него. Не знаю, однако, исполнила ли бы я так свято его поручение, если бы знала, что происходит внутри. Многие говорили мне впоследствии в северных городах, когда я приезжала туда: «О, если бы вы дали нам тогда волю, мы бы на плечах внесли его в палату, прямо к креслу председателя». Вдруг мы услышали страшный треск разбивающегося стекла и выбиваемых рам, и чрез несколько минут ко мне пришли с известием, что м-р Брэдло на дворе парламента. Мы кинулись туда и увидели его, безмолвного и мертвенно-бледного, с застывшим каменным выражением лица, с разорванным платьем, неподвижно стоящего против дверей палаты. Позже только мы узнали постыдную историю того, что случилось: как на человека, пришедшего заявить о своем праве, и пришедшего одним, без друзей, чтобы избежать столкновения и насилия, набросилось 14 человек так-называемой центральной бригады, полицейские и пристава, как они бросились на него, вытолкали его из залы заседания и столкнули с лестницы, разбивая в своем неистовстве окна и двери выхода; он же не ответил ни одним ударом, употребляя свою громадную физическую силу только для пассивного сопротивления. «Из всех, кого я видел, никто не боролся таким образом один против десяти», сказал один из полицейских начальников, возмущенный сам той несправедливостью, которую он вынужден был совершить по долгу службы. Один из очевидцев так описывал в газетах сцену, произошедшую в палате общин: «сильного, широкоплечего, увесистого м-ра Брэдло трудно было сдвинуть с места, тем более, что он противился насилию каждым первом и каждым мускулом. Упираясь и борясь против все более возрастающего числа нападающих, он отстаивал каждый дюйм пространства с изумительною настойчивостью, и отказывался от него только после нечеловеческих усилий удержать его. Зрелище становилось невыносимым; жертва насилия теряла последние силы, лицо м-ра Брэдло, несмотря на возбуждение борьбы, делалось зловеще бледным. Члены отказывались служить ему. Фраза, сказанная на Трафальгэр-сквере о том, что этого человека можно сломать, но никак не согнуть, приходила многим в голову при взгляде на него». Они вытолкали его и на дворе произошла короткая отрывистая словесная перепалка. «Я был очень близок от большой опрометчивости, когда очутился у дверей», рассказывал он впоследствии. Я был сильно взбешен и сказал инспектору Денингу: «скоро я вернусь с достаточной силой, чтобы устоять». Он спросил: «когда?» на что я ответил: «через минуту, если только я захочу поднять руку». Он стоял на дворе парламента и там, за воротами, было целое море голов, толпа людей, собравшихся со всех сторон Англии из любви к нему и для защиты представляемого им великого права избирать в члены парламента того, кого они хотят. Брэдло никогда не был более великим, чем в этот момент, когда ему нанесено было тяжкое оскорбление и несправедливость торжествовала. В нем кипела гордость человека с страстным темпераментом, он страдал к тому же от физического насилия, мускулы болели у него от страшного напряжения, так что целыми неделями после того ему приходилось ходить с забинтованными руками; и все-таки он имел достаточно силы духа, чтобы победить свой гнев, побороть в себе жажду мести, доведенную до крайности физическими страданиями; зная, что тысячи людей стоят в двух шагах, готовые броситься куда угодно по одному его слову, он послал сказать им, что он просит их разойтись спокойно, без всяких манифестаций, и назначил место и время митинга вечером, вдали от сцены происшедших событий. Но какие нравственные муки он испытывал при этом, может понять только тот, кто знал, до чего сильно было у него преклонение пред авторитетом парламентской власти и его уважение пред законом и вера в правосудие. В этот день разбиты были его политические идеалы, его национальная гордость, вера, что и относительно врага английское правительство не изменит себе, и что, несмотря на все свои слабости, англичане ставят на первом месте честь и рыцарство. «По крайней мере, – говорил он мне вечером того дня, – никто из-за меня не будет сегодня ночевать в тюрьме; ни одна женщина не обвинит меня за то, что её муж убит или ранен, но…» Лицо его исказилось выражением величайшей муки, и после этого рокового дня Чарльз Брэдло сделался другим человеком. Некоторые люди легко относятся к своим идеалам, у него же вся душа горела ими; он был истинным англичанином, преданным законам, свободолюбивый до мозга костей, с национальной гордостью, напоминающей патриотов XVII в. Его сердце сражено было изменой; он отправился в парламент один, веря в честность своих врагов, готовый подчиниться приговору об удалении из палаты или аресте – последнего он главным образом и ожидал; но он никогда не предполагал, что отправившись один навстречу врагам, он подвергнется грубому и коварному насилию и что члены палаты общин загрязнят парламентские традиции грубым оскорблением законно избранного члена и сценой, более достойной кабака, чем великой палаты общин, где действовали Гемпден и Вэн, и члены которой умели всегда ограждать себя от королевской власти и отстаивать свои права.
Эти бурные сцены вызвали у правительства обещание заступничества: м-р Брэдло не получил законного удовлетворения за причиненное ему оскорбление, да и не мог его получить; действия парламентской полиции покрыты были распоряжением самой палаты, но правительство обещало поддерживать его притязания на депутатское место в следующую сессию. Это помешало нам начать против правительства кампанию, которую мы намеревались вести. Я организовала на собственный страх, большое общество людей, поклявшихся отказаться после известного срока от употребления всех продуктов, обложенных пошлиной, и взять свои деньги из правительственных сберегательных касс, что в значительной мере должно было повредить финансовому положению правительства. Отклик рабочих на мой призыв был истинно трогательный. Один рабочий писал мне, что так-как он никогда не курит и не употребляет спиртных напитков, то он откажется теперь от чая; другие заявляли, что хотя курение единственная роскошь в их жизни, они все-таки готовы отказаться и от неё. Скрепя сердце, я стала просить рабочих не брать в руки страшного орудия, говоря, что «мы не имеем права создавать финансовые затруднения правительству, за исключением тех случаев, когда правительство отказывается исполнять свой долг и ограждать закон. Теперь оно обещало нам правосудие и нам нужно подождать». Тем временем, м-р Брэдло лежал больной с поврежденными мускулами руки, мешавшими ему двинуться и это привело к перемирию в парламентской борьбе, с небольшими только стычками, от времени до времени. Я являлась в парламент два, три раза, и одно из моих обращений к собравшейся пред палатой публике сделалось предметом интерпелляции м-ра Ритчи; в то же время сэр Генри Тейлер вел отчаянную борьбу против наших естественно-научных курсов. Другим осложнением моей тогдашней жизни было упоминание моего имени, – получившего рыночную ценность в ту пору беспрестанной борьбы – на заголовке брошюр, о которых я не имела никакого представления; это мошенничество моим именем в английских колониях доставило мне кучу неприятностей. Кроме этих, волновавших меня тогда дел, я занята была политической агитацией в стране, организацией конгресса свободомыслящих в Лойдоне, научными занятиями и преподаванием, чтением естественно-научных лекций в научном клубе, перепиской с манчестерским епископом, который громил свободомыслящих, и писанием направленной против этого епископа брошюры «Брак по завету Бога». Среди всей этой работы осенние месяцы промчались очень быстро.