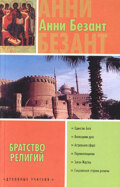Анни Безант
Исповедь
Первый роковой удар моей вере в милосердие Бога нанесен был в длинные месяцы страданий, достигших кризиса в кажущейся бесцельности мучений моей малютки. Я часто навещала бедных и видела их терпеливое отношение к страданиям; мать, которую я любила до безумия, доверилась адвокату и он ее обманул и запутал в долги, не выплачивая сумм, которые проходили через его руки для других; моя собственная светлая жизнь омрачилась страданием и сделалась тяжелым бременем вследствие нестерпимого сознания рабства; а теперь еще мое беспомощное, невинное дитя мучилось целыми неделями и осталось слабым и немощным. Безоблачная ясность всей моей предыдущей жизни придавала еще более острый характер моему разочарованию, и внезапное наступление столь новых и печальных условий жизни ошеломило и потрясло меня. Мое прошлое сделалось злейшим врагом преисполненного страданий настоящего. Существование зла и страдания в мире, страдания таких невинных существ как мой семимесячный ребенок, мир, переполненный горем, вечные страдания в аду – все это, не уничтожая еще во мне окончательно веры, приводило меня в отчаяние. Вся спавшая и не проявлявшаяся до сих пор сила моей натуры проснулась в мятежной тревоге. Во время первых вспышек горячего протеста в моей душе и столкнулась с одним очень симпатичным священником, который принес мне большое облегчение своим разумным, дружеским участием. М-р Безант привел его ко мне во время кризиса в болезни ребенка; он мало говорил со мной во время своего посещения, но на следующий день я получила от него письмо следующего содержания:
«21 апреля 1871 г. Многоуважаемая м-сс Безант, – я с грустью сознаю, что принес вам вчера мало облегчения. Вы сами понимаете, что виной этому не недостаток сочувствия, а быть может, напротив, избыток его. Мне слишком тяжело вмешиваться в горе того, в ком я чувствую чуткую душу. «Душа каждого несет собственное горе, и чужой да не коснется его». Общепринятые утешения, обычные цитаты Библии и молитвы кажутся мне невыносимым усилением страдания. Я поступал согласно изречению о том «что не может быть большей силы, чем вера одного человека, глядящая на веру другого». Обещания Божии, любовь Христа к маленьким детям и то, что нам дано для надежды и утешения, все это столь же глубоко запечатлено в вашем сердце как и в моем, и мне не хотелось повторять одни и те же цитаты. Но когда мне приходится говорить лицом к лицу с человеком, сильно нуждающимся в напоминании этих цитат, моя вера в них становится сразу такой полной и воспламеняющей душу, что самой действительной помощью мне кажется естественная простая речь, при посредстве которой вера может проложить себе путь из одной души в другую. Я не мог бы найти слов, если бы даже хотел. И все-таки я обязан, как вестник добрых вестей о Боге, торжественно уверить вас, что нет повода сомневаться. У нас нет ключа к «тайне страдания» кроме креста Иисуса. Но есть другое и более глубокое объяснение в руках нашего Создателя, и оно будет нашим, когда мы постигнем его. Есть – в том месте, к которому приведет нас земное странствование – какое-нибудь божественное разъяснение страданий вашего ребенка и вашего собственного горя, и тогда свет прольется в самое мрачное сердце. Теперь нужно верить, ни в чем не убедившись – такова должна быть истинная вера.
О том, чтобы у вас хватило на это силы молится Преданный Вам В. Д….»
Это письмо звучало очень благородно, но буря слишком бушевала, чтобы можно было ее рассеять. Особенно памятна мне одна ночь в лето 1871 г. М-ра Безанта не было дома и перед его уходом у нас произошла сильная размолвка. Я чувствовала себя оскорбленной, доведена была до отчаяния и не видела исхода из жизни, лишенной надежды на Бога и не научившейся еще верить в человека. А разве нет исхода? С быстротой молнии у меня мелькнула мысль: «исход есть!» И предо мной открылась, маня своим покоем и надежностью, дверь к вечному молчанию и безмятежности, дверь смерти. Я стояла у окна гостиной, безнадежно вглядываясь в вечернее небо; вместе с возникшей во мне мыслью пришло воспоминание о том, что средство под руками – что в моей комнате стоит бутылочка с хлороформом, прописанным для ребенка. Я побежала к себе наверх, нашла пузырек и спустилась опять в гостиную. Я опять остановилась пред окном, созерцая летнюю ночь и радуясь, что борьба окончена, что успокоение близко. Я вынула пробку и собиралась поднести яд к губам, когда вдруг услышала внутренний голос, ясно и убедительно взывавший ко мне: «Слабодушная, слышалось мне, – ты грезила о мученичестве и не можешь перенести несколько коротких лет страданий!» Стыд охватил меня и я отбросила флакон далеко в сад, расстилавшийся у моих ног; на минуту я почувствовала в себе достаточно силы для борьбы, но вслед затем упала в обмороке на пол. Только один еще раз в течение моих дальнейших столкновений с жизнью у меня мелькала мысль о самоубийстве и то только на один миг – я тотчас же отстраняла ее, как недостойную сильной души.
Мой новый друг, м-р Д., был для меня большой опорой в эти дни. – Все непоколебимые до тех пор для меня истины возбуждали во мне теперь сомнения и давили мою смущенную душу. М-р Д. не старался подавить во мне этих сомнений; он не приходил в ужас и не преследовал меня упреками, но относился ко мне с тем широким пониманием, которое так умиротворяет страждущего от первых мук сомнения. Он уехал из Челтенгэма в начале осени 1871 г., но его письма, сохранившиеся от того времени, показывают, какой сетью сомнений я была окружена в то время (я читала как раз книгу М'Леод Кампбеля «Об искуплении»).
Но раз открывши глаза на то, что мир представляет из себя в действительности, узнавши, как велики страдания людей, как безжалостно природа и жизнь топчет человеческое сердце, не делая различия между невинным и виновным, я была слишком потрясена, чтобы поддаться доводам, обращенным исключительно к чувствам и оставляющим разум неудовлетворенным. Месяцы подобного нравственного испытания отозвались, как этого можно было ожидать, на моем физическом состоянии. Я окончательно свалилась с ног и несколько недель пролежала расслабленная и беспомощная, страдая постоянной головной болью, боясь света, не двигаясь по целым дням; к окружающему я относилась не бессознательно, но безучастно, так как все мое сознание сосредоточено было на непрерывном ощущении боли. Доктор всячески старался облегчить мое положение, но замкнувшись в своей крепости, страдания мои не поддавались его попыткам. Он клал мне на голову лед, давал мне опиум, который чуть не довел меня до сумасшествия, и делал все, что только могли придумать заботливость и искусство врача; но все было напрасно. Наконец, физические страдания улеглись сами собой, и при первой возможности он принялся развлекать мой ум. Он стал давать мне книги по анатомии и естественным наукам и убеждал меня изучать их, и часто он урывал сам свободный часок от своих многочисленных занятий, чтобы объяснить мне какой-нибудь запутанный вопрос по физиологии. Он понял, что вернуть меня к разумной жизни можно было только отклоняя мысли от русла, в котором течение достигло слишком опасной высоты. Я часто думаю, что обязана своей жизнью и тем, что не лишилась рассудка в то время этому доброму человеку, который сочувственно отнесся к беспомощной растерявшейся женщине, падавшей под гнетом сомнений и личного горя.
Понятно, что душевный кризис, наступивший во мне, еще более увеличивал мои домашние неурядицы. Каким безрассудством казалось моему мужу, что нормальный человек так страдает от трудности для ума и души понять некоторые религиозные вопросы, и что женщина заболевает из-за таких пустяков. её дело заботиться об удобствах мужа и детей, а не скорбеть душой о земных страданиях и мучениях ада в загробной жизни, ломая себе голову над вопросами, которые занимали величайших мыслителей и все-таки остались нерешенными! И он был отчасти прав. Женщины или мужчины, которых близко затрагивают мировые вопросы, должны не торопиться вступать в брак, потому что они не сумеют терпеливо тянуть лямку этого почтенного общественного института. Sturm und Drang нужно пережить наедине с собой, и душа должна отправиться одна в пустыню навстречу искушениям дьявола, а не призывать его сатанинское величество с его спутниками в мирную домашнюю обстановку. Несчастны вступающие в брак в первом блеске молодости и с задатками грядущих душевных бурь в характере; они составят горе своей семьи так же как и свое собственное. Если же одна из сторон начинает искать опоры в традиционных понятиях о власти и правах, стараясь вернуть на путь истины мятежную, исстрадавшуюся от сомнений душу, то дело сводится к поединку в силе и терпении, к тому, падет ли эта измученная душа в изнеможении, или обрящет силу в своем страдании, будет отстаивать свое божественное право на свободу духа, разобьет оковы и, обнаруживая свою силу в критическую минуту, осмелится ответить «нет» на требование жить среди лжи.
Глава V
Буря
Чтением множества книг, как чисто англиканского характера, так и написанных различными сектантами и теистами, я старалась решить мучившие меня сомнения, но чувствовала тщетность моих попыток. В моем тогдашнем состоянии духа мне нужны были прямые доказательства.
В течение этих тяжелых месяцев нравственных страданий я находила некоторое облегчение от умственного напряжения в обычных заботах о бедняках нашей паствы, ухаживала за больными, старалась внести светлый луч в дома бедных. Я научилась в то время многому относительно землепашцев и условий сельского труда и это мне очень пригодилось впоследствии, когда я начала говорить с трибуны. В сельских околотках начинали тогда много говорить о земледельческом движении, во главе которого стал энергичный и преданный своему делу Иосиф Арч; мои симпатии были всецело на стороне землепашцев, потому что я была хорошо знакома с условиями их жизни. В одном коттедже я застала четыре поколения спящими в одной комнате – прадеда с своей женой, старую бабушку, овдовевшую мать и ребенка; трое жильцов дополняли зрелище восьмерых человеческих существ, скученных в узкой, душной лачуге. Другие котэджи были сараями, через разбитые кровли которых лил дождь и в которых ревматизм и лихорадки были постоянными сожителями человеческих существ. Знакомая с этим положением сельского населения, я могла только сочувствовать всякой организации, стремящейся облегчить участь бедняков. Но «союз сельских рабочих» встретил упорных врагов в фермерах, которые ни за что не соглашались давать работы членам союза. Следующий пример ярко характеризует положение дел. Один молодой семьянин, имеющий двух малолетних детей, имел неосторожность совершить грех, отправившись на собрание союза, и, что оказалось еще большим преступлением, рассказал об этом, вернувшись домой. Ни один фермер во всем околотке не хотел давать ему работы. Он понапрасну исходил все места по близости, нигде не мог сыскать работы и совершенно сбился с пути и стал пьянствовать. Придя к нему в коттедж, состоявший из одной комнаты и прилегающего чулана, я застала жену его в пароксизме лихорадки, одного ребенка больным у неё на руках, а второго мертвым на кровати. В ответ на мои нерешительные расспросы, она отвечала, что они в самом деле остались без хлеба, потому что мужу не дают работы. Почему же она оставила мертвого ребенка на кровати? Потому что некуда было положить его прежде чем принесут гроб. И к ночи несчастный, доведенный до пьянства рабочий, его жена не перестававшая томиться в лихорадке, больной ребенок и мертвый ребенок, все они улеглись на единственной кровати. Фермеры враждебно относились к союзу, потому что с успехом его связано было повышение заработной платы; им никогда не приходило в голову, что гораздо благоразумнее было бы платить меньшую арендную плату отсутствующему землевладельцу и высшее жалованье рабочим, обрабатывающим их пашни. Они покорно подчинялись гнетущему их бремени и с жестокостью относились к сеятелям их жатв, к строителям их амбаров. Они вступали в соглашение с врагами, а не с друзьями. Вместо того, чтобы примкнуть к земледельческому классу и образовать общий союз представителей сельского труда, они соединились с помещиками против крестьян; это привело к разорительной братоубийственной борьбе вместо легкой победы над общим врагом. Проникновение в истинное положение дел принесло мне большую пользу.
Ранней осенью луч света озарил мрак моей души. Я была в Лондоне с моей матерью и мы вошли раз, в воскресенье утром в St. George's Hall, где в это время произносил проповедь пастор Чарльс Войсэй. Слушая проповедь и взявши в руки некоторые из брошюр, продававшихся в зале, я с радостью убедилась, что были еще другие люди, переживавшие такие же страдания как и я, и отказавшиеся от догматов. Я опять пошла туда в следующее воскресенье, и когда служба кончилась, заметила, что выходящая масса молившихся проходила мимо м-ра и м-сс Войсэй, и что при этом многие, очевидно, совершенно не знакомые с ними, подходили к ним со словами благодарности. Я почувствовала горячую потребность после стольких месяцев одинокой борьбы поговорить с кем-нибудь, вышедшим из затруднений англиканского учения. Проходя мимо м-ра Войсэя, я остановилась и сказала ему: «я должна поблагодарить вас за то облегчение, которое принесла мне ваша сегодняшняя проповедь». В самом деле, так как я не сомневалась в существовании Божьем, то слова м-ра Войсэя о том, что «Он любит всех людей и Его благость простирается над всеми Его созданиями», как луч света озарил бурную пучину сомнений и отчаяния, среди которой я так долго уже мучилась. В следующее воскресенье я опять пришла слушать проповедь и получила приглашение от м-сс Войсэй посетить их в Дуличе. Их теизм казался мне свободным от недостатков, которые я находила в англиканском учении, и они открыли мне новый путь в вопросах веры. Я прочла книгу Т. Паркера «Рассуждение о религии», сочинение Франциска Ньюмана, мисс Ф. П. Коббэ и др.; напряженность моего нравственного состояния прошла, кошмар всесильного зла рассеялся; моя вера в Бога, еще нетронутая, очистилась от темных пятен, грязнивших ее, и я не сомневалась более в справедливости сомнений, смущавших мою душу.
До сих пор нравственное страдание было единственной ценой моих исканий истины; но отрешение от англиканской церкви прибавило бы внешнюю борьбу к внутренней, и кто знает, как это отозвалось бы на всей моей жизни? Колебание было тяжким, но коротким: я стала тщательно разбирать учение англиканской церкви и это привело к полной утрате веры. Я окончательно отошла от учения англиканской церкви и очутилась лицом к лицу с смутным будущим, в котором предчувствовала наступающую борьбу.
Чтобы избегнуть её, я сделала еще одну попытку; я обратилась к д-ру Пусэю, полагая, что если он не сумеет разрешить моих сомнений, то нечего и надеяться на разумный ответ на них. Я обменялась с ним несколькими письмами, но получила от него лишь указания на хорошо известные мне доводы Лиддона в его «Бамптонских лекциях». Наконец, по его приглашению, я поехала в Оксфорд для личной, беседы. Я увидела перед собой полного господина низкого роста, одетого в рясу и имеющего вид благодушного монаха; но его проницательные глаза, прямо и испытующе глядевшие в мои, свидетельствовали о силе и изворотливости ума в этой красивой, внушительной голове. Но ученый богослов пошел по ложному пути в обращении со мной; увидев меня убитой горем, робкой и нервной, он стал обращаться со мной, как с кающейся грешницей, которая пришла к исповеди; он думал, что я пришла к нему, как к духовнику, и не понял, что перед ним искательница истины, которая твердо решила добиться её и обрести твердую почву для своих верований. Я спросила, не укажет ли он мне какие-нибудь книги, которые пролили бы свет на мои вопросы. «Нет, нет, вы и так уже слишком много читали. Нужно молиться, много молиться». Когда я заявила, что не могу верить, он ответил: «Блаженны те, которые не видят и все-таки верят», и мои дальнейшие вопросы он остановил словами: «о, дитя мое, как вы непокорны, как нетерпеливы!» В самом деле, я была порывиста, горяча и неудержима в своем решении все знать и не говорить, что я верю, когда веры на самом деле нет; он не нашел во мне поэтому того покорства и смирения, с которым обыкновенно приходили к нему кающиеся грешники, прося его руководить их совестью. Он не имел представления о муках сомневающейся души; сам он, очевидно, никогда не переживал душевной борьбы, его вера была тверда как скала, непреклонна и вполне удовлетворена. Сомнение в догматах своей церкви равнялось для него самоубийству.
Медленно и грустно направилась я обратно к вокзалу железной дороги, убедившись, что последняя надежда на избавление исчезла. В знаменитом богослове я увидела обычный тип священнослужителей, умеющих быть нежными и участливыми лишь к грешнику, который приходит к ним смиренным, покорным и полным раскаяния. Но по отношению к скептикам и еретикам они становятся твердыми как железо, они готовы силой, а не доказательствами, остановить всякий протест против традиционных верований своей церкви. Из таких людей выходили в средние века инквизиторы, обладавшие безупречной совестью, строгие и непреклонные и вполне безжалостные к еретикам.
В течение той же осени 1872 г. я впервые познакомилась через м-ра Войсэя с м-ром и м-сс Скотт. В то время Томас Скотт был уже стариком с прекрасными белыми волосами и глазами ястреба, выглядывающими из-под нависших бровей. Он был могучего телосложения, и хотя здоровье его уже несколько пошатнулось в то время, его дивная львиная голова сохраняла свою внушительную силу и красоту, и носила отпечаток его исключительной по своим качествам натуры. Родившись в знатной и богатой семье, он провел первую молодость в странствованиях по всему свету, а после своей женитьбы поселился в Рамсгэте, сделав свой дом центром свободомыслия в английской литературе. Жена его, которую он называл своей правой рукой, по своей молодости годилась ему в дочки. Это была сильная, кроткая, благородная женщина, достойная своего мужа, что составляет самую большую похвалу. М-р Скотт издавал в течение многих лет, ежемесячно, серию брошюр, очень различных по оттенкам миросозерцаний авторов. Все брошюры были хорошо написаны и выдержаны в сдержанном, культурном тоне; м-р Скотт не допускал никакого исключения из этого правила. Издаваемые им писатели могли говорить, что угодно, но у них должно было быть, что сказать, и они должны были излагать это хорошим, выдержанным языком. М-р Скотт вел обширнейшую корреспонденцию со всеми, начиная от главы кабинета и до самых скромных частных лиц. В доме его встречались люди самых различных взглядов. Эдуард Майтланд, Е. Ванситтарт Ниль, Чарльс Брэй, Сара Геннель и множество других; церковные сектанты и светские люди, ученые и мыслители – все охотно приходили в этот дом, открытый для всех любителей истины и сторонников распространения свободомыслия между людьми. Для Томаса Скотта я несколько месяцев спустя написала свой первый очерк, выражавший все, что я тогда думала и подписалась женой священника. Я не могла распоряжаться именем, которое принадлежало не мне, и мы условились, что все написанное мною появится анонимно.
Наступил момент возвращения в Сибсэй и вместе с тем момент решительного действия.
Случилось так, что вскоре после этого памятного мне рождества, 1872 г., в нашей деревне появилась сильная эпидемия тифа. Канализация местности была самая первобытная и зараза быстро распространялась. Я всегда чувствовала влечение к ухаживанию за больными и нашла во время этой эпидемии дело, как-раз подходящее для меня; к счастью, я оказалась способной оказывать помощь, и это доставляло мне радушный прием в домах заболевших бедняков. Матери, которые имели возможность заснуть после долгих трудов, оставляя меня у изголовья больных детей, не могли, как мне приятно думать, слишком строго осуждать потом грешницу, рука которой так же нежно и иногда более искусно, чем их собственная, ухаживала за больными. Я полагаю, что природа предназначала меня в сестры милосердия, потому что я нахожу истинное наслаждение в ухаживании за больным, особенно если есть опасность, потому что тогда является странное и торжественное чувство борьбы между человеческим искусством и великим недругом, смертью. Странным образом влечет к себе эта борьба со смертью, которая ведется шаг за шагом; это чувствуется, конечно, только когда дело идет о борьбе за какую-нибудь жизнь вообще, а не за жизнь близкого человека. Когда больной очень дорог сердцу, в борьбу входит элемент личной муки, но если борьба происходит из-за чужого, является какая-то странная отрада без примеси личного страдания, и когда удается победить упорного врага, странное удовлетворение доставляет сознание отнятой у смерти добычи, возвращенной на землю жизни, которая была так близка к погибели.
Весной 1873 г. я открыла в себе существование силы, которая должна была определить очень многое в моей дальнейшей деятельности. Я произнесла тогда свою первую речь, сделавши это, впрочем, перед рядами пустых скамеек в сибсбэйской церкви. Мною овладел странный каприз попробовать, как это люди проповедуют, и во мне зашевелилось смутное сознание, что и я бы могла говорить, если бы представился случай. Я никоим образом не могла тогда предполагать, что мне предстоит стать оратором, но я чувствовала потребность излить в словах то, что меня волновало; я сознавала, что у меня есть что сказать и что я в состоянии выразить это. Запершись в громадной, тихой церкви, в которую я ходила упражняться в игре на органе, я взошла на проповедническую трибуну и произнесла свою первую речь о вдохновенности Священного Писания. Никогда я не забуду чувства силы и восторга – особенно силы, охватившее меня, когда голос мой раздался на далеком расстоянии под церковными сводами, и кипевшая во мне страсть вылилась в размеренные звуки, не прерываясь ни на минуту из-за недостатка в музыкальности и ритмичности. Мне в ту минуту хотелось только, чтобы церковь была полна обращенных на меня лиц, озаренных сочувствием моим словам; вместо этого, надо мной были ряды скамеек, наводящих тоску своей пустотой и тишиной. И как во сне пустое пространство мне показалось наполненным людьми, я увидела перед собой в воображении внимающие лица и оживленные взоры, фразы непринужденно полились с моих уст и эхо приносило их ко мне обратно от колонн старинной церкви. Я поняла тогда, что владею даром слова и что если когда либо – тогда мне это казалось невозможным – если когда либо мне пришлось бы говорить пред публикой, этот дар музыкальной речи привлек бы слушателей, что бы я ни пришла возвещать с трибуны.
Но это сознание оставалось в течение долгих месяцев тайной для всех, потому что я вскоре почувствовала стыд за нелепую проповедь в пустой церкви; но, как бы ни был нелеп этот эксперимент, я отмечаю его здесь, как первую попытку выражать свои мысли живым словом, что превратилось впоследствии в одно из самых глубоких наслаждений в моей жизни. И в самом деле никто не может знать, кроме испытавших это, какую отраду представляет легкое и плавное течение своей собственной речи. Какое наслаждение чувствовать, как толпа слушателей отзывается на самое легкое движение, как лица просветляются и омрачаются по произволу оратора; как отрадно сознавать, что родники человеческих чувств и страстей открываются при первом слове оратора, чувствовать, что мысль, волнующая тысячи слушателей, возбуждена мною и возвращается ко мне обобщенная волнением стольких сердец. Может ли быть в жизни более высокая радость, доставляющая более страстное торжество и полная в то же время интеллектуального наслаждения?
В 1873 г. брак мой был расторгнут. Я не сделала ни одного шага дальше, но мое уклонение от присутствия в церкви при конфирмации повело к разным толкам и один родственник м-ра Безанта убедил его в угрожающей опасности для его социального положения и служебной карьеры, если станут известны взгляды его жены. Мое здоровье, не оправившееся уже никогда с 1871 г., становилось все хуже и хуже и от постоянных волнений у меня обнаружилось серьезное страдание сердца. Наконец, в июле или сентябре 1873 г. дело дошло до кризиса. Мне было предложено подчиниться внешним церковным формам и присутствовать при конфирмации. Я ответила отказом. Тогда поставлена была более определенная альтернатива – подчинение или изгнание из дому, другими словами – лицемерие или разрыв. Я предпочла последнее.
Наступило бесконечно тяжелое время. Мать моя была убита горем. Для неё, с её общими и неясными представлениями об учении англиканской церкви, моя настойчивость на том, чтобы не выказывать веры, когда её не было, казалась непонятной. Она гораздо лучше меня понимала последствия моего ухода из дому и предвидела трудности, с которыми сопряжено самостоятельное существование молодой женщины моих лет. Она знала, как жестоко суждение света и как одно то обстоятельство, что женщина молода и одинока, возбуждает клевету и злобу. Я еще не подозревала тогда, до какой жестокости могут доходить люди, как ядовиты их языки. Теперь, узнав это, испытавши клевету и примирившись с ней, я чистосердечно заявляю, что если бы опять мне предстоял выбор, я поступила бы так же как в то время. Я предпочла бы пережить сызнова все это тяжкое время, чем жить среди общества под бременем сознательной лжи.
Тяжелее всего мне было бороться против слез и просьб моей матери; причиняя ей горе, я страдала сама в десять раз больше. Суровость других возбуждала во мне твердость духа, но трудно было оставаться непреклонной, когда мать, которую я любила больше всего на свете, становилась на колени, умоляя меня уступить. Мне казалось преступным причинять ей такое горе, и я чувствовала себя убийцей, когда её седая голова прижималась к моим коленям. Но что же сделать – жить среди лжи? Такого позора и она не допускала. В этот тяжелый кризис моей борьбы, я всеми силами стремилась к истине. И теперь, как всегда, остаются верными слова, что тот кто любит отца или мать – недостоин её, и что только тернистый путь честности ведет к свету и покою.
Много горя причинял мне также вопрос о детях, двух малютках, для которых я была не только матерью, но няней и товарищем. Отняли ли их у меня? Да, но только на некоторое время. Обстоятельства, излагать которых нет надобности, дали возможность моему брату выхлопотать мне формальный развод и когда все было улажено, я назначена была опекуншей моей маленькой дочери и оказалась обладательницей маленькой месячной пенсии, достаточной для того, чтобы не умирать с голода. Свобода досталась мне дорогой ценой, но и все-таки это была желанная свобода. Я поплатилась за нее домашним очагом, общественным положением, друзьями; но, достигнув свободы, я не знала, как ею лучше всего воспользоваться. Я бы могла жить с братом, если бы отказалась от своих свободомыслящих друзей и вела бы мирную жизнь, но я ничуть не желала вновь налагать на себя оковы и по своей неопытности решила жить самостоятельным трудом. Трудность заключалась в том, чтобы подыскать работу, и я издержала много шиллингов, записываясь в разные конторы и терпя повсюду неудачу. Я попробовала взяться за вышивание, предлагаемое «дамам в стесненных обстоятельствах», и заработала около 4½ шилл. за несколько недель усидчивого шитья; пыталась также обратиться к одной бирмингамской фирме, которая великодушно предлагала каждому увеличивать свои доходы при её посредстве; я послала требуемую небольшую плату и получила небольшой пенал при письме, в котором мне поручалось распространять между своими знакомыми безделушки подобного рода, от пеналов до столовых судков включительно. Я не чувствовала себя способной навязывать знакомым пеналы и судки и не вошла в предлагаемую сделку; подобные же неудачи в многочисленных других попытках дали мне почувствовать, как трудно пробить себе дорогу в жизни. Но все это не поколебало во мне решения устроиться самостоятельно вместе с моей маленькой девочкой и с моей матерью, Я наняла маленький домик на College Road в Норвуде, недалеко от Скоттов, которые были со мной в высшей степени любезны. Переезд туда назначен был на следующую весну и до того я приняла приглашение в Фолькстон, где у меня была бабушка и две тетки, и стала приискивать там занятий. Занятия вскоре нашлись. Местный священник нуждался в гувернантке и одна из моих теток рекомендовала ему меня: я поселилась у него с моей маленькой Мабель, при чем квартира и содержание нас обеих были единственной платой за мой труд. Я сделалась гувернанткой, нянькой, экономкой и кухаркой, и все-таки рада была, что нашла хоть какую-нибудь работу, которая помогала мне не растрачивать моего маленького дохода. Не думаю, однако, что когда либо я изберу поваренное искусство своей профессией; я ничего не имею против приготовления разных сложных соусов и печения пирогов, но следствием возни с кастрюлями и сковородами являются постоянные обжоги на руках. Приготовление какого-нибудь нового соуса полно особой прелести для неопытной кухарки, с любопытством ожидающей, каков может быть результат её стараний и может ли какой-нибудь запах, кроме запаха лука, сохраниться в получаемой смеси. В общем моя стряпня (конечно, по поваренной книге) была удачной, но я не могла справляться с уборкой дома – на это у меня не хватало физической силы. Этот любопытный инцидент моей жизни оборвался очень скоро, потому что одна из моих учениц заболела дифтеритом и из кухарки я превратилась в сиделку. Мабель я отослала к моей матери, которая обожала ее и пользовалась в награду своей любви снисходительной взаимностью трехлетней баловницы; трудно себе представить более пленительную картину, чем вид золотистых кудрей, выделявшихся на фоне белых волос, когда девочка прижималась к бабушке; детская грация Мабель составляла истинно художественный контраст с особой статностью, которую сохраняла в старости моя мать. Едва только у моей маленькой пациентки опасность миновала, как самый младший мальчик заболел скарлатиной. Мы решили изолировать его в верхнем этаже дома; там я очистила комнату от ковров и занавесей, завесила двери простынями, пропитанными дезинфекционной жидкостью, и заперлась с больным ребенком; кушанье мне оставляли на ступенях лестницы и я отрезала себя от всяких сношений с домашними. Когда же опасность миновала, я вернула отцу порученного мне пациента, радуясь, что болезнь не распространилась ни на кого другого в доме.