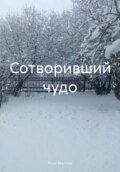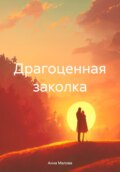Анна Малова
Наказание и исправление
– Кто? Кто это? Ты-и?! – и сердито зашипел: – Не понимаешь, что-ли, что деньги мне не нужны? Не утешат они меня! Меня теперь ничто не утешит! Если б я тогда аферами не занимался, мать родную не загубил бы… Ах!..
И он уронил голову на нары, затрясшись в безнадёжных рыданиях.
– Тише, тише, ты что! – шёпотом воскликнул я, в испуге озираясь по сторонам, не разбудил ли Микола кого-нибудь. Миха, не засыпающий долго, ворочался и нервно вздыхал; Степан повернулся на другой бок, бормоча во сне какое-то ругательство. Я укрыл Миколу потеплее, гладил его по голове, как это делал мне Афанасий, когда я бывал в горестном настроении. Я убеждал его, что о покойных нечего горевать, так как сейчас им хорошо, что жизнь наладится, когда он отбудет срок. А он вдруг резко заявил, сверкнув глазами:
– Наладится? Ты думаешь, наладится?! А знаешь ли ты, наивный глупец, что за человеком, попавшим на каторгу, будет вечно тянуться незримая цепь, проявляющая себя в жизни на чужой земле?! Ты и вообразить себе не можешь, как несчастен каторжанин! Нас ведь, прежде чем впихнуть в эту дыру, всех прав состояния лишили! В итоге мы будем влачить жалкое существование в чёрных крестьянских избах, чуть ли не землянках. А хочется ли мне так жить? Да никому не хочется! Душа тянется к родным местам, а вынуждены будем остаток дней в промозглой Сибири пастись! О-о-о!! Нет, раскольник, сама каторга не вечна, но последствия её вечны!
Микола пал головой на нары, не в силах даже плакать. А я только сейчас, по его напоминаю осознал весь ужас будущей жизни. Да, своей родины мне тоже не увидеть никогда, но всё-таки у меня в далёком Петербурге живут родные, в том числе и мать, которая, слава Богу, жива-здорова. А он… С той минуты, как он осиротел, он полностью поступил в число сибирских поселенцев. У него уже не было ни семьи, ни дома, ни родных… Свою родину он теперь вынужден находить в мрачной, неприветливой, пронизывающе холодной Сибири – а это невыразимо трудно. Но самое печальное то, что не только бедный Микола, но и мы все навсегда останемся в Сибири. Возможно ли вынести вечную разлуку с родиной и не умереть от тоски? Я подсел к своему окну и поднял глаза на чёрное, бездонное небо, будто пытаясь найти в нём утешительный ответ, и не помню, как смог уснуть после такого впечатления. Но в один из дней моей духовной жажды, когда я, отработав в столярной мастерской, отдыхал на завалинке, ко мне подошла девочка с милостыней – уже не та, другая, но такая же кроткая, с добрым намерением помочь. «Они знают, что мы, каторжные, не будем счастливы, но всё равно помогают, чем могут!» – пронзила меня острая мысль. И вновь жгучая боль несчастия охватила меня… Девочка робко протянула монетку и улыбнулась. Я принял эту милостыню с великой благодарностью всей доброте человеческой.
– Спасибо, милое дитя, – сказал я сквозь льющиеся слëзы, – спасибо тебе.
Ноябрь, 13
Глава XIII
Вот и кончается второй год ссылки моей… И, что самое прекрасное, – уже второй, а не первый! Порой предамся я сладким мечтам о вольном будущем, приближающемся с каждым днём, о том, как я выйду с каторги, как пошлю последний поклон острожным товарищам своим, и как мы с Соней здесь в городке заживём… Странно: то, что я никогда не вернусь на родную сторону, больше не вызывает у меня боли утраты. Наоборот, будущее становится сладким и до слëз желанным, ведь я буду вольным человеком… Окончится вся эта темень в рудниках, тяжесть на заводе, и духота эта казарменная. А праздник Рождества, что так долго ожидает каждый каторжанин, наконец-то настал, и означает конец минувшего года. Ещё в сочельник никто не выходил ни на какую работу – только куда-нибудь по своим делам, прикупить кой-чего хмельного. А вечером Иван Шувакиш, который, видно, больше других узнавал, в казарму вбежал и взволнованно сказал:
– А знаете ли вы, что творится за острогом? Метель, какой и не бывало. Сугробы намела такие, что и конвойные-то едва пробираются!
– Да ну-у-у! – протянул Митрий.
– Ещё ничего, но говение в храме конвойные из-за этого для нас отменили! – с досадой развёл руками Шувакиш. Начались возгласы разочарования, ворчания… Разочарован был и я, так как не был на прошлой службе по своей болезни. К тому же я считал, что большие православные праздники должны отмечаться исключительно в церкви, иначе они не были бы православными. Поэтому долгожданным рождественским утром я горячо помолился за всех, кто был мне дорог, и за Афанасия в том числе. Все, едва проснулись – марш на кухню, смотреть, как жарят и варят их прикупленных в сочельник гусей, поросят, куриц… Пускай они смотрят, а мне плотское насыщение сейчас ни к чему – меня обязательно угостят. Я прежде всего обменялся поздравлением с Афанасием, Михой и Другом, что выполнял, как всегда, свой собачий долг – держать при себе казарменные ключи. Но стоило мне подойти к нему, ласково его окликнуть, как он, ещё издалека почуя меня, кидался ко мне и бросал ключи у моих ног, чтобы как следует насладиться моей ласкою. Чуть только небо прояснилось, как нам сообщили, что священник приедет с минуты на минуту, привели в какую-то другую казарму, где уже был стол, накрытый чистым полотенцем. Для стола, однако, даже в казарме нашлось место, ведь нары в ней стояли вдоль, а не поперёк, как во многих. «Наверное, эта казарма была специально заготовлена для особых дней.» – подумал я, но тут вошёл городской священник отец Филипп. Пропев вечный тропарь, он стал благословлять нас, то есть подзывать прикладываться к золочёныму кресту, что он держал в руке. Все проделали это с большим благоговением, и я тоже – мне всё было ново, ведь на каторге встречают праздник совсем не так, как на воле. Особенно поразило меня то, что отец Филипп счёл за необходимость окропить казармы святой водой. Он и калачей острожных попробовал, сказал, что пекут их здесь отменно, а Петька Олежкин, который их и испёк, пообещал ему послать ещё. И в самом деле, лакомств к обеду у нас стал набираться целый стол. Тут и пироги, и ватрушки, и кренделя сахарные, и блины в клубничном варенье!
– И откуда это всё тут взялось? – изумлялся я такому количеству сытной еды.
– Ещё с сочельника принесли нам в милость. Каждое Рождество такое знатное подаяние приносят. Для тебя в этот год всё казалось новым, а после Рождества – как мы, опыт приобретëшь.
И вот подошло время обеда – все расселись и приняли от поваров свои готовые кушанья. Что это был за пир! Миха угостил меня молочным поросëнком, а Афанасий – жареной в масле перепëлкой. Арестанты, желая утолить вечный каторжный голод, ели всё, что только могли, а то, что не могли разделяли между собой. После обеда мы вышли встречать коменданта, который лично приехал поздравить нас. При этом все благодарили и кланялись с какой-то боязливой почтительностью, а мне были очень приятны любезность и добродушие со стороны такого важного лица. Затем к нам пустили друзей и подруг, с которыми мы обменивались поздравлениями, подарками и просто тёплыми словами. Во всеобщей толпе гостей я без труда нашёл Соню: она ласкала встречавшего её Друга. Мы заключили друг друга в самые крепкие и сердечные объятия, и Сонечка шепнула мне: «С Рождеством Христовым!»
– И тебя тоже. – ответил я, гладя еë головку. Давно я не ощущал такой отрадной теплоты – судьба наконец смиловалась надо мною после долгих месяцев промозглой осени. К этому ещё прибавлялось странное ожидание какого-то чуда, что будто бы должно произойти совсем скоро. И нечто чудесное произошло в эту же минуту! Соня передала мне конверт:
– Вот, твои мать и сестра с праздником поздравляют.
На секунду я замер, боясь поверить своему счастью… а затем почти выхватил у неё драгоценное писмо и горячо поблагодарил. Сонечка опустила хорошенькие смущённые глазки:
– Да не за что. Я и другим арестантам письма приношу и в праздники, и в обычные дни.
– Ты словно воссоединила меня с моей семьёй. – прошептал я. – В этот вечер я буду не одинок.
И правда, когда арестанты по казармам отмечали рождественский вечер, они всё же нуждались друг в друге, а я явственно ощущал близость моих далёких родных – словно они сидели здесь, рядом со мной и рассказывали о своей нелёгкой, но по-прежнему светлой жизни без меня. По почерку я узнал, что первой писала матушка. Она горячо приветствовала меня после долгих месяцев письменной разлуки, сообщала, что первый месяц очень тосковала без своего «милого Роди» и почти ничего не ела. Также, если случалось ей начать с кем-нибудь разговор, она с гордостью и умилением рассказывала о моих подвигах, что я совершал, будучи ещё свободным студентом: например, ухаживал за больным товарищем, или спасал из пожара двух детей соседки… Всегда любящая меня маменька до сих пор не верила совершëнное мною убийство и надеялась, что у меня здесь всё хорошо.
Следущая часть письма была написана Дуней. Она поведала о своём замужестве с Дмитрием Разумихиным, что меня очень обрадовало: я знал, что они прекрасно подходят друг другу, тем более, Дмитрий сам был давно в неё влюблён. Но денег на переезд они накопить всё ещё не могут, поэтому увижу я их только через три года. Однако Дунечка просила меня не печалиться, верить только в добро и воспринимать каждый день как подарок судьбы. И Соню она благословляла всеми силами души и знала, по её письмам, что Сонечка – единственная моя надежда и любовь.
Вокруг меня звучали балалайки, скрипки и хмельной смех, а я, позабыв обо всём, снова и снова перечитывал милые строки матери и сестры. Я поднял глаза на большую и яркую звезду в чёрном морозном небе – наверняка Рождественскую. И в моей родной Рязани светила такая же… Там, ещё при жизни отца моего, мы с Дунечкой получали подарки, и, устроившись под наряженной елью, также любовались на эту звезду. Почему она загорается каждый этот вечер, может гадать любой, но мы знали – просто потому, что Рождество Христово. Милое и чудесное прошлое ушло, угасло, как лучи солнца на закате, а вечная Звезда осталась, напоминая людям о том, что милость Божия не оставит людей, даже закоренелых преступников в сибирских острогах. С улыбкой оборачиваюсь на арестантов – у них царит уже полный чад, но не с участием воды и жара, как в бане, а песен, вина и непременно слëз.
– Кедровой лизнëшь? – спросил Миха, протягивая полную кружку.
– Нет, спасибо, – вздохнул я. – Как-то не пьётся…
Пил я самую малость, да и то в самых горьких случаях, чтобы успокоиться. А кружку у Михи сейчас же выхватил один из матёрых арестантов, мгновенно осушил и отправился к Гагину за новой порцией. У Гагина и кедра, и коньяка целый запас – всем разливает, не жалеет; хотя бы в праздник на друга похожим становится… Петька затянул басом песню народную, которую вскоре подхватила вся казарма:
Вдоль по улице метелица метёт,
Скоро все она дороги заметëт.
А двое крупных молодцов взялись под руки и давай крутиться-вертеться, гремя по полу цепями:
Ой, жги, жги, жги, говори,
Скоро все она дороги заметëт!
Придёт час – и этот день кончится… А точнее, вечер. Весь чад длился достаточно долго, чтобы успеть описать всё это Рождество. Да и о чём написать дальше?! Что вижу, о том и повествую. Пиления скрипок и бренчанья балалаек постепенно стихают. Столопинский, ещё час назад хохотавший, теперь рыдает в непонятной «смертельной тоске». Тоскливо вздыхают и многие другие, ища товарища для излития ему печали, как котята ищут тёплое молоко. Гагин уже, так сказать, в стельку пьяный, громко храпит на своих нарах, и смех арестантов, переходящий в рыдание, не может его разбудить. И даже Миха о чём-то скорбно причитает. Все встретили праздник Рождества Христова, как будто обманувшись в какой-то надежде, будто разочаровавшись в некоем чуде… Не знаю, как другим, а мне хорошо. Так же хорошо и радостно, как было когда-то в раннем детстве… По-видимому, так же чувствует себя и Афанасий, который уже давно прочитал вечернюю молитву Рождества, и говорит мне:
– Ну, вот и знаешь ты тут всё. Но сколь не живёшь, а жизнь всё новое и новое преподносит… С каторги выйдешь уже умудрённый опытом, благодарный и ни на кого зла не держащий.
– Ещё на один год ближе к воле. – соглашаюсь я с ним. – Но сколько ещё месяцев! Так долго ждали Рождества – прошло и оно. Завтра снова пахать…
– Работай исправно, живи для других, и сам не заметишь, как пройдёт то, что кажется нестерпимо долгим.
Я порешил ждать. Смог же эти два года здесь прожить, проживу и следующие. Каторга – есть великое учение жизни, многому ещё меня научит… А сейчас – время позднее. Слишком позднее… Арестанты бредят во сне больше, чем обычно. Хватит… Нужно ещё Рождественской звездою полюбоваться.
Декабрь, 25
Глава XIV
Я порой задумываюсь – а какой будет жизнь после каторги? Не подвергнусь ли я гонениям? Получу ли достойные жильё и работу? Ведь невольно вспоминаются слова Миколы о вечной незримой цепи каторжанина. При этом чувство нетерпеливого ожидания начало совсем меня съедать: пять лет, ещё целых пять лет! До приезда Дуни, Разумихина и матушки и то три года ждать.
В остроге же дни текут за днями. Житьë стало однообразным невыносимо. Единственным утешением были редкие покупательницы моего плетёного товара. Миха будто бы понимал моё нетерпение выйти на свободу, и не переставал подбадривать меня и занимать чем-нибудь. В тот день Афанасий решил сделать работу за меня, чем я и воспользовался, выйдя на берег озера. Миха отработав своё, поинтересовался моим грустным состоянием:
– Всё по воле вольной тоскуешь?
Я молча кивнул и отворотился. Если бы возможно было, убежал бы я куда-нибудь далеко, в сибирские горы, где нет ни врагов, ни мучителей, только густые молчаливые ели да снега, блестящие на солнце, точно хрустальные.
– Ты смотри, больно-то не тоскуй, – предостерëг тут меня Миха, – а то диким станешь, как мужичок один…
– Какой? – удивился я.
– В одной из казарм острога нашего ночует, а день на природе проводит. Сослали его тридцать лет назад сюда за какое-то убийство, он так на волю рвался, что одурел совсем. И даже после окончания срока ожидания его не закончились. Уехать-то он не может, у него на это денег и возможности просто не существует. А всё ждёт он какую-то Муру свою, ждёт и надеется, что увидит её когда-нибудь… Напрасно!
Сия печальная история произвела на меня впечатление, да и неудивительно: бывают же такие каторжные, несчастнее которых нету, наверное, нигде. Они сходят с ума от ожидания, проводят целые годы в бесплодной надежде, что свидятся однажды с родными своими… Жизнь становится для них одним мучением, ведь они не могут принять испытания, данные свыше, забывают веру в Бога, и чахнут наконец от страшной, невыносимой тоски. В эту минуту Миха скорбно произнёс:
– Вот он, опять к озеру двинулся! – и указал на лохматого приземистого человека вдали. Он шёл нетвёрдыми шагами, спотыкался о сугробы и вновь подымался, скуля при этом, как больной пёс. Достигнув берега широкого озера, он протянул руки вперёд, словно всей своей страждущей душою желал улететь на далёкий противоположный берег, словно там долгие годы находится мечта всей жизни его.
– Му-у-ра-а! – кричал сумасшедший, хриплым голосом. – Му-урочка-а-а!..
Но озеро молчало, и берега тоже… Мура была невыразимо далеко, и расстояние это преодолеть было невозможно. В конце концов крики несчастного перешли в рыдания, и он в полной безнадёжности рухнул лицом в снег. Я опустил глаза, не имея более духа глядеть на полумëртвого от горя человека, надежда которого каждый день, сменяется отчаянием. Вот как оно бывает: от ожидания можно и вовсе рассудок потерять. Оказывается, и печальней моего случаи встречаются! Выходит, я ещё не так несчастен, как некоторые. Родные всегда шлют мне письма, да и я в Сибири не без друзей… Это блаженством можно назвать по сравнению с мучениями теряющих разум. Размышления о радостях и горестях человеческих так захватили меня, что я, направляясь с артелью за дровами, не заметил, как Миха и Афанасий о чём-то душевно разговаривают.
– Родион, знаешь, что я чувствую сейчас? – заговорил он со мной. – Я чувствую приближение самого сладкого и долгожданного, чего так не хватало мне в жизни – свободы. Да, разумей, ибо завтра утром я перехожу из невольных каторжан в вольные поселенцы! Мог ли я вначале своего каторжного наказания думать, что выйду из острога с совсем другими взглядами и убеждениями? Вначале я был ветреным, отошедшим от истины, а теперь стал умудрённым и здравомыслящим. Могу без сомнения заявить, что каторга научила меня всему. Благодаря неугасимой вере, я и в остроге имел всё для полноценной жизни, кроме свободы. И вот, завтра, обретя её, я получу возможность быть с людьми и передавать им ту мудрость, что познаëтся только такими страдальцами, как каторжники. Здесь, в остроге, я узнавал и выживал, а на воле буду сам проповедовать и жить!
Я заслушался мудрого Афанасия и, казалось, сам исполнялся мудрости: его наука жизни пойдёт мне на пользу несомненно, и я проживу свои оставшиеся шесть каторжных лет без нетерпеливого ожидания. Да и всей этой истиной обязан жить каждый, только кто-то усваивает её сразу, а кому-то, чтобы понять её, требуется немало времени. Афанасий – особенный. Он в силу своей исконно русской натуры понял эту истину. Он несомненно достоин свободы.
Вечером долго беседовал с моим верным, хорошим другом и благословлял за его религиозную мудрость и доброту, а он благословлял меня на всю жизнь. Утром все наши поглядывали на него с сожалением. Может, потому, что теряли такого тихого, щедрого и набожного человека, а может, потому, что вспоминали о своих, ещё долгих, сроках. Некоторые глядели даже с открытой завистью и отворачивались, когда Афанасий им кланялся. А кланялся он всем без исключения, низко и почтенно, прося не поминать его лихом. Обошёл он все шесть казарм и, входя в каждую, молился на образа. А когда кандалы с него были сняты, мы ещё раз сказали друг другу последнее прости, и даже пёс Друг помахал ему хвостом. Я смотрел на бывшего каторжанина Афанасия Лаптева, удаляющегося от острога, и думал, о том, каким же верным товарищем, пусть даже на недолгие годы, был для меня этот человек. Теперь он исчезает из моей жизни надолго… Быть может, навсегда. Но он вечно будет жить в моей памяти, как и всё мудрое и важное, что я от него узнал.
Вдруг подле себя я заприметил Соню, что пришла навещать меня и тоже стала свидетельницей выпуска Афанасия. Я взял её за руку и убедительно сказал:
– Да, Соня, теперь я убеждён – каторгу можно вытерпеть. И выйду я из неё уже настоящим человеком…
Соня ничего не ответила и с улыбкой прижалась ко мне.
Январь, 19
Глава XV
Стоит ли писать, что происходило со мной последующие три года? За это время в жизни моей почти ничего не изменилось, а если и изменилось, то непременно в лучшую сторону. После того, как выпустился из острога Афанасий Лаптев, я сначала чувствовал некоторое одиночество и лёгкую тоску… И вот он – новый друг, Миха Шишигин, удалец с грубоватыми манерами, но с тонкой, чувствительной душою. Он не может заменить мне Афанасия, но он приветлив и добр ко мне, и я люблю его за то, горячо, искренно. Меня, впрочем, любят также многие арестанты, и балуют, чем могут. А с наступлением весны я нахожу себя плетении корзин. Эту работу я теперь знаю в совершенстве, и покупатели дивятся моему мастерству. Среди покупателей тоже находятся люди, которые знают меня, любят, разговаривают со мной, подают милостыню, которую я сохраняю на церковные пожертвования. Пёс Друг, казалось, из всех арестантов предпочитал лишь меня одного. К Михе он тоже ласкается, но не с такой страстью, как ко мне. Вероятно, потому, что я отдаю псу лучшие куски купленного мяса, из любви к нему, верному и умному… Жестокие конвойные редко кормят его. Стоит мне утром или вечером оказаться во дворе, как он уже мчится мне навстречу и покрывает мои руки поцелуями своего горячего языка. Я целую Друга – такой он милый и преданный – и иду на утреннюю работу или вечерний отбой, а пёс машет мне вслед хвостом. Любит он и Соню, и не лает на неё, как на других навещающих, когда она появляется у ворот. Появляется не только утром во дворе, но и на заводе, в лесу, а то и в шахте. И каждый раз несёт мне какое-нибудь лакомство: хлеб белый, картошку варёную или селёдку копчёную. Вместе мы делились впечатлениями и строили планы о будущем – очень светлом в нашем воображении. Как переедут в сибирский городок мои родные, купят уютный дом, и как мы все вместе заживём… Да, могу твёрдо заявить, что жизнь моя стала куда лучше, чем была прежде. Я способен, терпелив, отзывчив… Счастье улыбается мне…
Но когда появились те, ради кого я жил, которые были бесконечно дороги для меня, восторгу моему, казалось, не было конца! Вечером, когда я пересчитывал свои сбережения на чай, в казарму заглянул конвойный.
– Вас изволили-с посетить, – прошипел он наигранно-вежливым голосом. – Во двор пожалуйте-с!
Пребывая в удивлении, я направился к воротам. «Соня обещалась прийти утром… Значит, следует ожидать чего-то иного…» – и моё сердце взволнованно затрепетало. Как только отперли ворота, взору моему представилась коляска, из которой выходила женщина с волосами белыми, как снег. Вслед за нею выпрыгнул ещё один человек и подал руку молоденькой даме. Веря и не веря одновременно, я весь подался вперёд… Седая женщина приблизилась, и встретившись со мной взглядом, резко остановилась… Такой взгляд имеется лишь у одной женщины в мире…
– Мать! Матушка, вы!
– Родя! Родечка! Бесценный мой, любимый!
Плача и смеясь, мы целовали и прижимали друг друга к сердцу – радость была такой, что не выразить словами…
– Родя, дорогой мой, ненаглядный! – всхлипывала матушка, называя меня истинно материнскими словами. – Я уже думала, что никогда тебя не увижу!..
Мы ещё раз обнялись крепко-крепко, а Разумихин – это был именно он – сказал:
– Я говорил, выживет он! Соня не дала ему помереть!
– Я знал, что вы приедете, – крепко пожал я ему руку. – Все эти три года я ждал вас и хранил ваши письма.
– Как же я рада видеть тебя снова! – воскликнула маменька. – И Дмитрий Прокофьич рад, и Дунечка тоже.
Только тут я заметил, что на меня умилëнно смотрит Дуня, моя милая, верная сестра. Трогательное волнение охватило меня; я заключил Дуню в сердечные объятия, шепча при этом сокрушëнно:
– Милая моя, хорошая! Узнала ли ты меня, измученного и нищего каторжника?