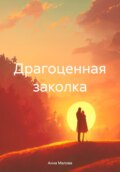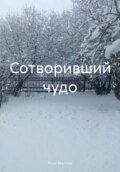Анна Малова
Наказание и исправление
Я уже мысленно увидел, как, молодой и прекрасный, лежу в гробу, весь покрытый цветами. Седенький священник ходит рядом и поёт панихиду, а к моим ногам припала маменька и ревмя ревёт. Рядом, держа свечи, проливают горькие слëзы Дуня и Соня… О, Соне есть о чём пожалеть! «Ах, зачем я склонила его на явку с повинною, вместо того, чтобы он спокойно выдержал свой решающий шаг!» – шепчет она, прикладываясь к моей руке, и прямо рыдает-рыдает! И схоронют меня на неизвестном кладбище, и вырастут на моей могилке цветы разные, и раскинет над ней свои объятия берёза, а я буду лежать там, под землёй, и не горевать ни о чём… и довольно! Пора! Это будет легко из-за ледяного и быстрого течения и тяжести кандалов на ногах.
Я подошёл к крутому берегу и, зажмурившись, уже хотел, было, сделать последний свой шаг, как кто-то резко дёрнул меня за шубу, возвращая обратно. Ничего не понимая, я обернулся и увидел пёсика, что никуда не уходил, а продолжал следить за мной и, вероятно, понял, что я задумал. Я попытался вырваться, но пёс вцепился в мою шубу мёртвой хваткой и скулил каким-то умоляющим голосом, словно так и хотел сказать: «Не надо!» Я посмотрел на него и подумал: «Неужели жизнь настолько дорога, что даже пёс знает ей цену?.. Верно. Животное оказалось справедливей меня…» Я как-то растерянно улыбнулся, махнул на реку рукой и почти без сознания отправился назад.
С работы мы всегда возвращались засветло, чтобы никто не смел сбежать под покровом ночи. Но сегодня наш обратный путь был долог, так как многие тянули салазки с нарубленными дровами, застревая с ними в сугробах и с трудом переступая ногами. И никто не замечал, что снег уже не просто падал, а валил хлопьями.
– Морозец-то сегодня крепко завернул! – фыркнул какой-то конвойный. Холод и в самом деле пробирал как никогда. Мои ничем не прикрытые пальцы совсем озябли, а дыхание судорожно вылетало густым паром. Усталый и продрогший, я отстал от своих, а идущих позади конвойные всегда подгоняли прикладами, грубо рыча: «Живей!» Но в этот час замыкающим вереницу конвойным было вовсе не до меня: они то и дело помогали арестантам вытаскивать из снега салазки с тяжёлыми вязанками дров. Я глядел на измождëнные, изрезанные морозом лица каторжан, на их худые негреющие полушубки, которые трепал ветер, вздыхал и думал: «Вот так же и я чахну здесь, не испытывая ни единой радости, даже самой маленькой и незначительной. Я умру, умру непременно от этих скверных условий и тоски… От тоски – особенно. Но… почему? Неужели жизнь настолько страшна, что судьба позволит человеку так легко из неё уйти? Разве не знамение надежды это было, что пёс уберёг меня от самоубийства? Разве нету здесь никого, кто мог бы любить меня так, как мать или сестра?.. Соня!»
Эта мысль, словно вспышка молнии посреди мрака, озарила меня надеждой. Мне сразу стало теплее, и всё скверное мигом отступило. «Бежать! – вдруг решил я. – Бежать отсюда к Соне, она добрая, она меня мучителям в обиду не даст. Никто не увидит меня из-за снегопада! Вперёд!» Конвойные были так заняты заносимыми снегом салазками с дровами, что совсем потеряли меня из виду. Я понял – медлить нельзя, мне дан случай уйти от каторжного гнёта и спастись у Сони, которая вполне может понять, что мне всё это не выдержать. Я старался ступать быстро и, в то же время, осторожно, чтобы снег предательски не скрипел. Но когда я отошёл в сторону уже довольно далеко, снегопад перешёл в такую метель, что я ничего не взвидел. Я только помнил, что Соня живёт в деревне, находящейся за лесом. Поэтому я свернул вправо, так как именно там после острожных казарм начинался лес. Но я шёл, шёл, а ничего впереди не показывалось. «Ну же! – подбадривал я себя. – Только лес перейти – уж это я смогу!» Однако идти было уж не так легко: колючий ветер обжигал лицо, сугробы затягивали. Я совсем выбился из сил и чуть не падал в снег. Но вот из-за белоснежного занавеса начал проглядывать долгожданный лес. «Слава богу!» – подумал я и, преодолевая усталость, двинулся через деревья. Однако к моему отчаянию, лес оказался совсем не таким, каким я знал его всегда: в том было больше хвои, а в этом одни редкие, трепещущие на ветру берёзы. «Не тот! – осознал я в сильном беспокойствии. – Назад без промедления!» Но, уже совершенно окоченевший, двигаться назад я не мог: кусты цеплялись ветками за мой шарф, снег с деревьев падал за шиворот и там таял, а в сугробах я увязал по колено. Наконец я, не справившись со страшной сонливостью и жгучим холодом опустился под дерево. По телу сразу разлилась приятная теплота; впервые за всё время я почувствовал, что никуда не хочу идти. Соснуть немного… Соснуть хотя бы ненадолго, а потом снова в путь… Но вдруг откуда-то послышался громкий вой и визг, а затем прямо ко мне стали приближаться две жёлтые точки, светящиеся в темноте.
«Волки!» – со страхом подумал я, но, как это ни странно, страх этот тут же рассеялся, ушёл куда-то в глубь. Сон насильно закрыл мне глаза, и я перестал чувствовать всё вокруг…
Я очнулся, или точнее, проснулся в незнакомой горнице, лёжа на деревянной койке, укрытый собственной шубой. Рядом кидает в печь дрова тот самый мужик, что смеялся надо мной на заводе.
– А, вечер добрый! – усмехнулся он, заметив, что я присел в постели.
– А где… волки? – всё ещё в бреду прошептал я.
– В голове у тебя волки, ты их и выдумал. – сурово сказал он. – Когда конвойные обнаружили, что в партии не хватает тебя, то они чуть с ума не сошли, бросившись разыскивать тебя сломя голову. А их пёс отыскал тебя лишь по следам, ещё не занесённым снегом, и чудом нашёл тебя в сугробе, замерзающего и совершенно без сознания. Мне поручили обогреть тебя и дать тебе хороший ужин. – он указал на дымящиеся щи с накрошенными туда кусочками хлеба. – Сейчас тебе нужен покой и сон, поэтому будешь здесь находиться, пока не выздоровеешь. Впрочем, там увидим… Ну, печка славно затоплена, тепло тебе будет. Всё ли тебе я хорошо тут устроил? Отвечай скорей, мне ведь ещё постель себе стелить.
Я оглядел стены арестантской палаты, и осознал, что не удался мой побег; да, меня поместили в отдельную горницу, снабдили тёплым, знатным ужином, какого у меня прежде не было, но какой ценой? Чтобы я продолжил влачить жалкое существование здесь, в деревянной клетке? Благодаря заботе и доброте Сони, я бежал бы куда-нибудь далеко-далеко, где мог бы излечиться свободой от своего позорного преступления.
– Иди, стели! – безнадёжно махнул рукой я. – Я всё понял…
Если бы мужичок посмотрел на меня внимательно, если бы вслушался в мои слова, то наверняка узнал бы, что для меня ясно решительно всë… Но он лишь дружески кивнул мне и удалился, оставив меня сидеть одного в ужасе от пережитых событий, которые я не могу поведать никому… Но сначала я должен был поделиться с тобой, мой драгоценный дневник!
Декабрь, 17
Глава IV
Любезный мой дневничок, как долго я не посещал тебя! Прошёл конец декабря и весь январь, прежде чем я начал чувствовать себя лучше! До этого мне было очень и очень нехорошо: мало того, что с вечера моей прогулки под шум ветра и свист метелицы, я лежал в страшном жару, так ещё и кошмары начинали донимать. Меня поили всякими снадобьями, успокаивали словами, но я-то знал, что хворь моя не только из-за морозного побега! Меня больше терзало то, что все эти кошмары, грезившиеся мне в болезни, так грустно и так мучительно отзываются в моих воспоминаниях. Так что же мне такое грезилось, что оставило такие впечатления? А вот сейчас запишу.
Снилось мне, что весь мир осуждён в жертву какой-то доселе неслыханной моровой язве, что распространялась, как ураган. Кого поражала эта болезнь, тот становился бешеным и сумасшедшим. Никогда люди так не считали себя умными и непоколебимыми в истине, как те, в кого вселялась болезнь. И никогда не считали непоколебимее своих нравственных убеждений и научных выводов. В итоге все в мире, поражённые страшной заразой, не понимали друг друга, всякий думал, что в нём одном заключается истина. Люди не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать добром, а что злом. Люди убивали один другого в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но воины уже в походе бросались друг на друга, грызлись, резались, будто неразумные. Начинались пожары, голод, отчаяние… Спастись могли только избранные – те кто мог начать новую жизнь, очистить землю от скверного, вывести людей из заблуждения. Кто же это, в самом деле?! Кто эти избранные?!
Не пойму, в какой день, мне стало настолько хорошо, что я смог подняться и подойти к решëтчатому окну. На госпитальном дворе большими сугробами лежал снег, было солнечно и тепло. Казалось, всё и до этого так было, разве что воздух в то время был морозным – наверное, и через много-много лет, стоит только подойти к этому же окну и глянуть, как увидишь всё те же мрачные сугробы и всё тот же высокий частокол, за которым таится другой, неведомый, свободный мир. Ощущение было у меня в ту минуту такое, будто бы ждёт что-то меня, когда я совсем выздоровею, это что-то уже близко, но его нету, и я не знаю, что это – и это была новая тоска. Вот коротко, по-зимнему, тинькнула синица. С этим звуком какая-то до слëз отчаянная страсть к жизни нахлынула вдруг на меня. Синичка опять где-то пропела «тинь-тинь». Я представил пичугу: маленькая, желтобокая, с чёрной полосой на грудке. «Как же славно поёшь ты… Пой, пой ещё, кроха вольная! Здесь, в палате, тишь могильная, ничего, кроме мышиного шороха не слышно, темень кромешная… Где же ты, полдневная певица? Почему замолчала?..»
Снова мёртвая тишина. Солнце скрылось за облаками. Наверное, ничего нету хуже, чем несчастное одиночество… Но тут… у госпитальных ворот я заметил Соню! Она поводила по сторонам тоскливыми глазами и словно чего-то ждала. Она взглянула в окно, и наши взгляды встретились. Что-то будто пронзило в этот миг моё сердце, я вздрогнул – она! Ужель она?! Я поскорее отошёл от окна и смущённо опустил взгляд в пол. Эта девица, чья жизнь такая же ужасная и горькая, как и моя, следует за мной даже сюда, в эту мёртвую обитель! Я снова поднял глаза и посмотрел в окно издали. Я видел, как Соня вздохнула, разочаровавшись, и печально побрела со двора. И тут я понял, понял наконец, что она меня любит! Именно любит, не щадя себя и жертвуя для меня абсолютно всем. Она мне так необходима, так желанна! Я непременно объясню ей всё, что думаю о ней, скажу, что сам испытываю к ней сострадание! Завтра, если только почувствую себя лучше, чем сегодня, скажусь здоровым, и выйду к ней сам. Ведь моя жизнь для неё важнее всего, как я не догадывался об этом раньше? И поэтому чувствую, она обязательно придёт в следующий же день!
Февраль, 9
На следующий день Соня не пришла… И на третий день тоже. В тот день меня выписали из госпиталя, и я отправился на работу. Даже в шахте, куда Соня всегда смело спускалась меня встречать, она не появилась. Я начал замечать, что жду Соню с беспокойством, что она нужна мне не только как утешение, но и просто как любимая. Её вспоминали даже каторжане, которым она помогала.
– Эх, что ж не идёт наша матушка Софья Семëновна? – вздыхал один из них. – Я бы попросил её отослать письмо моей матери. Всё ведь для нас сделает, настолько людей любит!
– А я бы у неё вылечился, – вторил другой и тоже задумывался: – Где же она сейчас?..
Тут из забоя вышел бородатый с киркой, слышавший их разговор, и грустно сообщил:
– Сестра Петьки приходила и оповестила, что Софья Семëновна заболела. Лежит у себя дома и никуда не выходит.
При слове «заболела» я выронил свою кирку и она со звоном упала на камни. Больна! Моя Соня больна! Надолго ли? Не опасно ли? Как я без неё буду?..
– Ах, несчастье! – покачал головой первый. – Ну, дай бог ей скорейшего выздоровления.
– Совсем её каторжная забота замотала… – вздохнул другой. – А ведь она именно за ним последовала!
Он сердито скосил на меня взгляд, знавший, как уже и все каторжники, что Соня поехала в Сибирь из-за меня. Все в остроге знали давно и о моём преступлении, и о моём равнодушии ко всему, за что люто меня ненавидели и прозвали раскольником по-фамилии. Но не знали они, что в последнее время со мной всё было не так – сон, что снился мне в болезни, изменил мои взгляды и убеждения. Однако, чтобы не сердить арестантов своим присутствием, я смущённо удалился в другой конец шахты.
Чем дольше я ожидал выздоровления Сони, тем терпеливее становился, как замечал сам. В ходе этого ожидания я происходило моё постепенное знакомство с жизнью некоторых арестантов, так как после болезни мне страстно хотелось жить и чувствовать. Ссыльно-каторжные в этом «мëртвом доме» самые разные были: некий Столопинский, например, сослан сюда за то, что жену в гневе зарезал; сам сухой, долговязый, вечно всем недоволен и груб по любому поводу. Но может неожиданно прийти на помощь, и, если человек сможет ему угодить, заведёт с ним крепкую дружбу. Гагин – огромный мужичина геркулесовского телосложения, все его боятся из-за его пудовых кулаков и умения затевать ссоры и драки. Между прочим этот Гагин постоянно мёрзнет и, к изумлению моему, умело нашивает себе на полушубок подкладки из меха каких-то животных. Но больше из всех арестантов моей партии заинтересовал меня тот мужичок, что впервые заговорил со мной и выхаживал меня во время болезни. Зовут его Афанасий Лаптев, выходец из простых, солдатом служил. Был в чём-то не согласен с командиром и застрелил его, за что и приехал сюда.
– А не скучаешь ты по жизни вольной? – спрашиваю.
– Конечно, скучаю, – спокойно отвечает тот, – иногда. А так, смирился, ведь и в неволе волю можно найти для себя.
– Как это? – не понимаю я. – Ведь житьë здесь такое дурное!
– Человек – есть существо ко всему привыкающее, – без тени неудовольствия поясняет Афанасий. – А то, что здесь я оказался – стало быть, Богу так угодно, принимать это нужно.
«Бог-то тут причём?!» – негодую я с неизбывным, однако, любопытством. Меня удивляло то, как быстро Лаптев со всем смиряется, как быстро забывает обиды и благословляет весь мир. Особенно поразила меня его исконно русская православная религиозность: каждое утро и каждый вечер он зачитывал молитву и истово крестился. И спал всегда спокойно, а просыпался во все дни бодрым и готовым ко всему.
– Как это у тебя получается? – невольно, из удивления, однажды спросил я его. А он, улыбаясь, ответил:
– Не у меня, а у Господа Бога. Он за мою любовь к Нему и награждает такой жизнью. А жизнь так прекрасна! Нужно только уметь чувствовать это прекрасное.
– Ага, – задумчиво произнёс я. – Значит, чтобы жить хорошо, нужно всего лишь во всём благодарить Бога…
– Разве только для этого? – в свою очередь удивился Афанасий. – И благодарить надобно с удовольствием. Возлюбить Его прежде всего нужно…
Мне было сложно понять философию этого глубоко верующего и сильного духом мужичка, так же непонятно было – отчего его так уважают? Сам Афанасий был не красавец, и не слишком грамотен – обыкновенный представитель исконной Руси с ясными тёмными глазами и густой бородой, ни с кем дружбы не заводил, но если мог, помогал делом или словом. Может быть, за это его и полюбили?..
У других мужиков, даже у самых отъявленных преступников, был точно такой же взгляд на жизнь: они соблюдали все религиозные обряды, часто признавались друг другу, что раскаиваются, вымаливали в молитвах прощение. О Соне говорили часто и много. Её жалели, по ней вздыхали… И я тоже по совету Афанасия через сестру Петьки спрашивал, как Софья Семёновна себя чувствует. Как же сильно и больно билось моё сердце, когда я на следующее же утро прочёл написанную карандашом записку от Сони! В ней было написано так: «Здравствуй, Родион! А я, слава Богу, почти здорова! Марья Васильевна сообщила мне, что ты обо мне тоскуешь и озабочен моим здоровьем – не волнуйся! Болезнь моя не опасна. У меня всего лишь пустая, лёгкая простуда – наверное, в тот день, когда я ходила у твоего госпиталя, было ветрено. Я рада, что ты выздоровел тоже, и совсем скоро навещу тебя на работе. Жди.
Твоя Соня Мармеладова.»
Я прочитал милый почерк Сони, и радостное волнение охватило меня: я её увижу, я признаюсь, что люблю её! Нужно только дождаться, только встретить!
– Идём, Раскольников, – посоветовал мне Афанасий, – не то опоздаешь на перекличку.
Я вышел во двор, и всё показалось мне светлее чем прежде. День выдался солнечным, и даже в ссыльно-каторжных проступало что-то довольное. Пёсик-ключник жизнерадостно развлекался в снегу, ползая то на одном боку, то на другом. Я дал ему специально припасëнный кусок говядины, что удалось приобрести на свои деньги. Признаться, я был больше не одинок: в остроге у меня завелись целых два товарища – Афанасий Лаптев и этот четвероногий преданный Друг.
На следующий же, однако, день я вспомнил Соню по-другому, отчего меня стали терзать почти незнакомые мне прежде чувства – стыд и раскаяние. Она была ведь хрупкая, мягкосердечная и такая добрая, а я не столь уж давно мучил её. Пытался разрушить хитросплетения её веры, давая ей понять, что она – лишь несчастное, ничтожное создание в несправедливом и жестоком мире. А как содрогалась она в ужасе от моих слов, как плакала! Я и после не принимал её любовь, когда она виделась со мной на каторжных работах.
Теперь во мне появилась ненависть к самому себе, я горько раскаивался и считал себя тираном. Но больше всего боялся я, что Соня может меня не простить за такое, и прекратить общение со мной. А я уже твёрдо понимал, что без её помощи мне не прожить, ровно так же, как и без любви её!
В это утро, удивляющее своей ясностью и теплом, я и ещё двое наших каторжников пришли в располагавшийся на берегу реки сарай. Работы там почти никакой и не находилось, кроме как алебастр в печи толочь. Один арестант отправился вместе с конвойным за каким-то инструментом, другой стал заготавливать дрова для печи, а мне дела не нашлось; я жадно воспользовался этим и вышел на широкий берег реки. Присев на бревно, я устремил свой печальный взгляд на другой берег, далёкий и недостижимый ни для одного каторжанина. Там была облитый солнцем луг, где-то совсем вдалеке чернел лес, и знакомое чувство тоски уже сковывало мне душу. Хотелось к неясному теплу, свету, любящему женскому сердцу… Вдруг подле меня очутилась Соня. Она появилась почти бесшумно, одетая в старенькое поношенное платье и зелёный платок, скрывавший её волосы. Лицо её ещё не оправилось от болезни – было бледным и худым, но уже улыбалось приветливо и радостно. Она села рядом и протянула мне руку. Если прежде я принимал её руку с досадою, или же вовсе отворачивался, то сейчас я принял её беспрекословно. Милая, бедная Сонечка! Разве ты любишь меня, такого скверного и гадкого? Я мельком взглянул на неё, но, не в силах смотреть прямо в глаза, снова склонил голову. Нас никто не видел, свидетелем нашей встречи был лишь пёс, греющийся на солнышке. Наконец, я не выдерживаю её молчания и говорю первым:
– Знаешь, Соня… Мне кажется, что ты святая… Ты идëшь на страдания добровольно, и все тяготы жизни будто не касаются твоей чистой души – так не может никто. А я, в отличии от других, был неблагодарен к твоей пречистой милости, и потому тебя недостоин.
Всё мутнеет от подступивших слëз, слышится только кроткий голос Сонечки:
– Нет, все могут пострадать за других. И даже неблагодарным надлежит оказывать помощь, если они в ней нуждаются, ведь они такие же люди, созданные тем же Творцом.
После таких мудрых и добрых слов моё сердце разбивается на тысячи осколков, давая выход той боли, с которой я живу столько лет! Я падаю ей в ноги и рыдаю, громко и судорожно, как, наверное, никогда не рыдал в жизни.
– Родион, Родион, что с тобой? – кричит Соня испуганно и жалостно. – Полно, полно, ты не виноват!
– Не виноват?! – восклицаю я. – Это я-то не виноват?! Я, который не принимал твои сочувствия, заботу, любовь! Да, любовь!..
– Но я прощаю тебя, Родя, – говорит Соня со счастливой улыбкой, гладя меня по голове. – Я прощаю тебе всё.
Моего сердца словно касается что-то огненное, и трепетное восхищение берёт надо мною верх. Никогда я ещё не испытывал такое благоговение, как перед этой девушкой.
– Соня, как ты могла простить меня, негодяя и убийцу? Нету сомнений – ты святая. Если я кланялся всему страданию человеческому, то теперь поклонюсь именно тебе!
И я покрыл поцелуями её ноги. Но Соня лишь в великом смущении отступила назад:
– Что ты, что ты, Родион! Разве я похожа на святую? Разве у меня есть крылья, разве от меня исходит свет? Ты лучше вот что: отпусти тяжёлое прошлое, прости себе свои ошибки, и просто полюби меня.
– Полюбить! Тебя! – воскликнул я, боясь поверить своему счастью. – О, я давно уже тебя полюбил! Я люблю тебя так искренно, так горячо!
Я плакал, но уже не теми жгучими и болезненными слезами, а какими-то сладкими и счастливыми, облегчающими мою многострадальную душу. Если прежде я был стойким к слезам, то в эту минуту неизбывное горе и тоска будто сломали эту гордую стойкость и дали, наконец, воскреснуть. О, я чувствовал это всем существом своим, чувствовал, что всё наконец изменилось к самому лучшему, что пришло время жить! А Соня, обнимая меня, посмотрела в небо с такой благодарностью, что вся каторжная жизнь показалась мне совершенно померкшей, потускневшей. Вместо этого зажглась другая жизнь, которую я не знавал прежде, но которая должна быть у каждого человека.
– Теперь мы будем нести крест страданий вместе. – прошептала Соня.
– Если мы вместе, даже самая тяжёлая каторга будет легка, – заметил я.
Это было наше заключительное, безоговорочное решение. Ведь у меня теперь была она, которую я, наконец, обрёл по-настоящему, которую был готов любить и оберегать, а она – она ведь только и живёт моей жизнью! Даже пёс сидел рядом, навострив уши, и был, казалось, не безучастен к нашей беседе. А мы глядели на дальний берег, точно готовые к неизвестному подвигу, точно видевшие то, что не видно другим…
Давно не испытывал я таких чудесных впечатлений. Лежу на нарах, подложив под голову ладонь, оглядываю казармы и нахожу их не такими уж и грязными, а очень даже уютными. И мои бывшие враги тоже смотрят на меня будто иначе. Афанасий прочёл вечернюю молитву и дружески подмигивает мне и говорит:
– Благодать-то какая, а?
– Почему бы и нет? – соглашаюсь я, и неведомое чувство переполняет меня; хочется со всеми подружиться, всех полюбить… Моё внимание привлекает кривозубый с паршивой бородкой – Столопинский. Он стелет себе постель с такой аккуратностью, что я думаю: «А не такой уж он и отвратительный…»