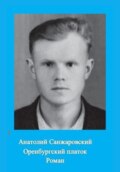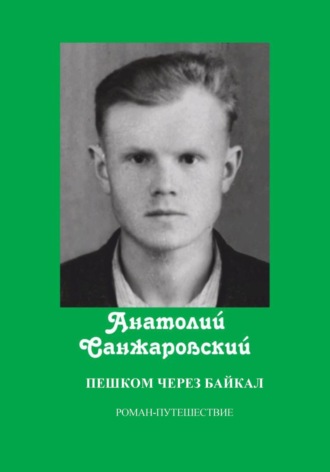
Анатолий Никифорович Санжаровский
Пешком через Байкал
15
Силён тот, кто валит,
сильнее тот, кто подымается.
Алмаз алмазом режется.
Пошло дело на лад:
словно один держит, другой не пускает.
Сломалось что-то во мне, сломалось, потерялось что-то такое, без чего я уже не я, без чего вытекли из дня ясный свет, радость.
Может, всё дело в усталости?
Вторая половина пути, как и вторая половина жизни, постепенно теряет свою притягательную силу. Блёкнут краски в окружающем тебя мире, приедаются теснящие по все дни тебя вещи, лица, ты всё больше спокоен к ним душой, охладелый, остылый.
Мы бредём молчаком.
Похоже, устали не только от Байкала, устали и друг от друга. От бесконечных разговоров языки за щеку позавалились.
Самолучше – побезмолвствовать, покопить, сбиться силами.
Я примечаю, отяжелелый Генка шествует как-то не так.
Без аппетита.
Переставляя ногу, принужденно широко, с остережением забирает в сторону.
– Ты чего, как пингвин?
– А-а… Потёр всё на свете…
Мне набежало съехидничать про себя. Ага, и ты по колени ноги оттоптал! Потише, кипяточек, лети!
Обмякнув, он уже не свирепствовал, не смотрел на меня сквозь злость, не понужал торопиться против прежнего.
Вижу, и у молодого, легкого бегунца мощей не без меры, похоже, выдохся и он, неповалимый скакун.
Ни дать ни взять, осталось на двоих три ноги, кто б только нам и переставлял их – силушка своя вся повытекла…
То Генка мёл рядом со мной, теперь же трудно отламывался на лыжах шагов на сто вперёд, валился грудью на палки и, не поворачиваясь, киснул, покуда не подберусь я.
Я добросовестно, круто жёг вслед, в малые секунды загнанно равнялся с ним и ладился хоть отдышаться, пуская в цене свою усталость как раззаконное право на отдых. Вон вся братия обедничала часа полтора, можно было выспаться, а я за всю дорогу останавливался, не присаживаясь, минут, гляди, на десяток. Право слово, без конца то бежать, то идти на скору руку – тут ощутишь аромат каторги.
Но я не роптал, я спешил как мог, всё время нянча надежду на капельный передых, – Генка не давал. Как только я настигал его, он тут же отпихивался дальше, минут через пять вновь свисал с палок, сох.
И эту его лёжку на палках я повернул пользой в свою сторону. Важничая, строя из себя Ивана, он не оборачивался – ну и не надо! – я проворно пластался на лёд. И лишь когда меня не было очень долго, он всё ж из милости оглядывался.
Следил я за ним в оба.
Едва начинал он неуклюже, всем корпусом повёртываться, я пускал глаза в лёд, показывая видом, что мне там до невозможности что-то поглянулось, никак не надышусь на осточертевшие картинки в коренном льду.
Не сдерживался Генка, размягчённо, расшибленно выполаскивал:
– Не-е… недисциплинистый ты… Ну чего разложился?.. Чего пялиться? Не понимаю… Не стёр ещё глаза об этот дурацкий лёд? Любопытная Варвара…
– Не Варвара, а Варвар… Как-никак мужеского профиля. А потом, не такой уж великий грех любопытство. Любопытство вывело человека из пещеры, закинуло в космос…
Генка лениво хмыкнул. Дескать, соображалистый, мели, мели, на язык пошлины нет и, не слушая моё пустое, убрёл восвояси.
Трудно перебираю я зачужелыми ногами, еле скребусь за ним и не свожу взора с маячивших впереди гор, похожих на табун белых лошадей.
Не знаю ничего коварней байкальского миража.
Горы торчат на виду уже не час, не два, не три. Во всё это время такое ощущение, что мы не наблизились к ним ни на локоть.
Я смотрю себе под ноги и не верю, что бегу.
Кажется, это всего-то лишь пустая пробежка на месте, ровно так, как оседлаешь велосипед на подставке. Дико вертятся колеса, спицы – сплошной белый ком, ты в поту, полная иллюзия бешеной езды, но всё это только иллюзия.
Лёд пошёл совсем голый. Ровный, вгладь. Хоть кубарем катись.
Идти в лысых ботинках несахарно; то и дело, убиваясь до смерти, валишься с ног, валишься, как чурка с бровками.
Ко всему прочему сильно подвернулась левая нога, вывихнутая в коленке на футболе ещё в школе. Стало и вовсе невмоготу.
Развесив в стороны руки, абы не грохнуться, с опаской кой-как пропрыгивал малый кусочек пути, метров с двадцать, и, не таясь, как срезанный с корня, валился передохнуть: ну совсем с ног сгорел.
Видел это Генка, не ворчал.
Только однажды сронил к разу уговорчиво:
– Не ложись на лёд… Холодный. Лучше на снег…
Я побаивался смотреть дальше своего носа, вовсе не отваживался смотреть на сам берег. Я не верил уже ясно видимым домам, не верил, ходившим там людям. Мерещилось, посмотри я и всё это: и берег, и дома, и люди – ещё дальше уйдет и туда я уж ни в какие силы не доточу.
А потому, переводя дух, высматривал ближнюю ко мне белую полоску; напрочь не веря, что дотянусь, всё же, однако, скользом добирался, раз по разу падая.
В конце концов и падения повернул я себе к пользе, вырешил, что падения – заслуженное право на передышку даже меж снежными, натянутыми из снега, сабельками.
"Кувыркнулся – не спеши вскакивать. Вернись сначала в себя…"
На первых порах, ладясь лечь, я в остережении и долго таки клал вытянутую подвернувшуюся ногу на лёд; теперь же в мгновение распластывало меня, – жмурясь, оловянным солдатиком валился на плечо.
Зато ничего не было каторжней вставанья.
Насквозь мокрые и гудевшие с устали ноги вовсе отказывались нести. Подымаясь, полвечности торчал на четырёх костях, всё не насмеливался отодрать руки ото льда.
"Вот если б двигаться лёжа, не вставая…"
Попытал катиться, катиться дровиной – ни черта. Вертит как-то кругами на месте…
Божечко праведный!
Да нас встречает Борис, беда моя и выручка.
Без лыж, без рюкзака!
Значит, и в самом деле всё уже скоро!
За спиной у него, в отдальке, из столовой тёк народ, весёлый, подобревший на знакомстве с горячими достопримечательностями её буфета.
Из плотной толпы выворотился суматошно-радостный Нола- Нола, тюкнул зелёной бутылкой шипучки "Байкал" об санки:
– За переход!
Бутылка не разбилась. Значит, будет что и выпить за переход.
Машет Нола-Нола нам санками. Мол, только кивни, моментом притащу санки и доставлю сюда первым сортом!

Борис оглянулся на коротко катнувшийся сухой стук, угрозливо выставил Ноле-Ноле кулачину с чугунок.
Нола-Нола покорно впятился назад в толкучку. Крупный на рост, дюжий, Борис поворачивается ко мне спиной, столокотной, раздольной, как сибирская сама доброта-вольница. Мало приседает:
– Пожалте… Таксо подано.
Да будь мы одни, не кипи черный муравейник на пятачке подле столовки, я б не раздумывая повис.
Вцепился, вмертвился я обеими руками в крутое доброе плечо, только на берегу отпал.
Борис и Генка поздравили меня с первым переходом. С первым переходом через Байкал.
В ответ повёл я сморенно плечом:
– Да нет…Работа… Какой там переход…
– Вы загорели больше всех, – сказали мне.
– Награда за отставание. Я дольше всех шёл, мне плотней, лучше и легло байкальское солнце.
16
Пошло дело в завязку, дойдет и до конца.
Догорела свечка до полочки.
Автобус уже петлял по иркутской окрайке, когда ко мне подсел Генка. Заговорил вполголоса, широкой ладонью прикрывает рот со смешком:
– Срочно прими пять строк в номер… Знаешь ли ты, что всадник погибает в седле, а путешествующий сбивается с ума на маршруте? Вот… Свели двое знакомство в походе. Точка. Абзац. Поглянулись друг дружке. Шуточками да прибауточками уговорились не пуд соли смолотить – соль вредна! – взаменки столковались шестнадцать раз вместе перейти Байкал. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сегодня мини-программа завершена, они женятся. Тоже, возьми внимание, сегодня. Ты безбожно всё затянул, вообще мог всё испортить. Теперь улавливаешь, с какой это радости кто-то на кого-то чёрным зверем порыкивал? Из-за тебя ж всё было на грани катастрофы, варилось на ниточке, но эти двое, они в автобусе, чертовски везучие, оттого, – Генка весело смотрит на часы, – счастье укладывается в заявочный срок. Через четверть часа регистрация. К той поре наш автобус доспеет прямо к загсу.
– Надеюсь, жених не я? Не под мою фамилию подводить невесту?
– Успокойся. Не ты и не под твою… Лёг ты, закадычный землячок, молодым в душу, вошёл в добрые, просом просят быть за тысяцкого воеводу… Самая почётная персона в свите жениха.
– Но позволь воеводе хоть знать, кто ж молодые?!
Генка с улыбкой подал слабый поклон:
– Светлана свет Ивановна и ваш покорный слуга Точка-ибн- Абзац.
Эпилог
До нас люди жили – много говорили; не помрём, так и мы поврём.
Слово выпустишь, так и крюком не втащишь.
Хвали утро вечером, днём не сеченый!
А вскоре от молодых пришло письмо.
Я ответил.
Наладилась переписка.
В письме так в третьем вырезка из местной газеты. На полполосины размахнулся Генка про тот переход. "Колечко будто слил".
И про меня черканул. Приписка на полях:
"Старина, не будь обидливый, не мог я не написать… Даже на Олимпиадах с марафонского финиша иных-прочих, случается, утаскивают на носилках. На самих Олимпиадах! Но ты-то в спорте кто? Синьор Нуликов! И без подготовки, без лыж отмахать пешим порядком по байкальскому льду за лыжниками 45 км – таковского по нашей стороне не слыхивали. Марафонскую дистанцию ломанул! И умолчать прикажешь? Не сдержался, как мог, так и прокукарекал. Знаю, не к душе, не в масть тебе всё это, да что делать? Сказанное назад в кадык не ворочается. Малость утешает то, что ты далече, за пяток тыщ вёрст по лбу не щелканёшь. Знай ждём, как прокричишь ты. Точка. Абзац."
Милый мой Точка-ибн-Абзац!
Что ж я тебе скажу?
На беду, не услышишь ты моего крика.
У каждого в жизни свой Байкал, свой Рубикон.
Столького стоило перейти…
Когда явился я за ответом, выпихнувшая меня на байкальскую проминку Шахиня, редактриса отдела, подперев пухлыми куцыми ладошками трехнакатный подбородок, разомлело сияла ярче зеркала на солнце.
"Неужели так разжёг её очерк?" – блеснуло в голове.
Но увидел под нею разновёхонькие стулья и затосковал. Стулья под тумбой погибали прежде, чем успевал отойти от них лаковый дух; повергнутый в вечное отчаянное уныние новенький завхоз сучил петлю, почём зря грозился поднять меры, но не подымал, остерегался тревожить квашню; Шахиня же всё круче мрачнела, во все дни пребывала не в духах и мёртво домогалась выдавать лично ей сразу по два стула; схватчивый завхоз легко умножил на два и счёл, что тогда она будет вдвое против обычного ломать стульев – разорище полное! – вконец придавит его и без того зыбкую тринадцатую зарплату и ни в какую не соглашался: придись до любого, не в охоту же работать за холщовый мех, за малое, неширокое жалованье; местком, заседавший в мою командировку, заслонил Шахиню, в порядке последнего исключения потянул её руку.
Увидал я под нею два сдвинутых, раскоряченных стула, пронзительно мученически всхлипывающих при всяком малейшем её движении, и вспомнил её коронное, где-то вычитанное: "В рабочее время мы ничего не делаем с таким усердием, как то, за что нам не платят." Вспомнил и упало догадался, что праздновала она пиррову победу над прижимистым завхозом.
И очерк тут мой вовсе ни при чём.
– Совсем оборзеть! – липким, ленивым голосом пустила она на высоких тонах – боярская спесь на самом сердце наросла. Выудила, выкружила из кладбищенски тяжёлой горы измаянное, обшорканное уже с углов моё писание, коротко взвесила на руке; осудительно, туго хмыкнув, столкнула мне на край стола. – Целых тридцать восемь страниц настрогать! Это памятник тебе! А памятники мы живым не ставим… А между тем ты попросту не имел права идти! Нормальный лыжный переход. Все на лыжах, один ты без лыж. Как сорока на березке! Что за примитивный героизм? Где техника безопасности? Наконец, для кого писаны инструкции?
– Я засомневался сейчас, что первыми на земле были Адам и Ева. Первыми, конечно, разнепременно были Инструкции, а уж потом всё прочее? Не так ли? Однако всё стоящее Человек совершал в разладе с Инструкциями. И не каялся. И немудрено. Да слушайся их безотговорочно, до сих пор не качался б на дереве? До сих пор Инструкции разве пустили б его с дерева?
– Может и быть! – с ересливым, капризным вызовом полусоглашается Шахиня. – Зато никакого риска! А где у тебя коллектив? А где высокая публицистика? Может, пока ты перешёл, потерял с ведро крови, умирал не раз – хорошо, всё допускаю, но это твоё личное дело. Кому это нужно? Журналист – ломовая лошадь, волоки материалы о других. За тем, между прочим, и посылали. А как ты там эти материалы добывал, мало кого заботит. Читателю вынь да положь переход в чистеньком виде. Без примесей. Не вешай свою переживальческую лапшу ему на уши, от третьего лица стороннего наблюдателя гони отсортированный радостный фактаж на бочку. И никому нет дела до твоей персоны. Ты – певец за сценой! Понимаешь? За сценой! А ты полез на сцену! Отстал с этим Генкой… Подумал бы, кто об отстающих-то даст? А вот иди ты вместе с коллективом, а лучше – чуть впереди дружного коллектива! Чувствуешь образ – журналист ведёт! – другой бы и разговор. А так… Редколлегия точки на точке не оставила от очерка. Главный так срезюмировал: критика касалась в основном материала такого-то, он получил достойную оценку.
– Кто? Материал или такой-то?
– Оба! – с дряблым хохотком мягко пришлёпнула она ладонью по очерку.
Под нею жалобно хрустнули расползающиеся стулья.
Прошло ещё время.
Долгая череда суматошных будней растворила во мне плотную обиду на Шахиню. Столького сто́ил байкальский очерк, а не пустила-таки в журнал.
Не пустила, ну и не пустила…
Туманом отошла от меня обида, рассеялась.
И вот теперь, когда всё отстоялось, улеглось, из-за стены новых дней я увидал в себе…
Как-то боязно сейчас вспоминать переход. Мне уже порой и не верится, что я мог перейти. Но я – перешёл!
Я оказался сильней того, каким себя считал.
И это открытие разве мне безразлично?
Март 1979.Байкал – Москва.
Примечания
В этом романе, который первоначально назывался «Честная работа, или Пешком через Байкал», использован классический завет отечественной литературы о «драматической простоте сюжета».
Строители Байкало-амурской магистрали часто по выходным дням совершали оздоровительные лыжные прогулочные переходы через Байкал. Вот об одном из таких обычных туристских переходов бамовцев и поручил мне написать репортаж один московский журнал.
Прилетаю я в Иркутск и только тут до меня доходит, что переход-то лыжный, а я вырос на юге, лыжи видел только в кино. К тому же ещё в юности, играя в футбол, сильно вывихнул в колене левую ногу.
Что делать? Все на лыжах, а ты один беги следом без лыж сорок пять километров по байкальскому льду?
Конечно, можно не идти в поход со всеми, а на машине встретить участников перехода уже на берегу, расспросить о впечатлениях и вся недолга, материал на репортажишко наскребу!
Но у меня своя мера отношения к делу: писать репортаж только о том, что лично видел, в чем лично участвовал. И я рискнул, отважился на переход. Кинулся, как в омут.
Естественно, в романе я не мог не писать о том, что видел, что слышал на Байкале. Но этот роман скорее не столько обо мне, сколько о всех безымянных порядочных журналистах, литераторах.
В простой сюжет втиснут кусок честной жизни, может быть, самый лучший кусок, которым герой может втайне гордиться. Ведь он далеко не мальчик, ему за сорок и суметь взять верх над собой в этом жестоком поединке на ледяном Байкале – это что- то да значит. Есть ещё в пороховнице порох! Эта победа над собой вселяет веру в себя, подвигает к отваге браться за дела, ранее казавшиеся неподъёмными, неприступными.
И в наши уютные, тихие дни в жизни каждого встают свои ледяные Байкалы, встают рубиконы, и всяк по-своему их переходит, а иной и трусит переходить. Нынче слабый, разболтанный человек гибнет от сытости и лени. Человек перестал двигаться. Это большая беда. Вышел из квартиры – лифт. Из лифта вышел – не свой автомобиль под окном, так автобус, метро. В отпуск он спит на южных пляжах, к двадцати пяти годам у него пузо с пивную кадку, подбородок в пять накатов.
Здоровье отдельно взятого человека – это в конце концов и здоровье страны в целом.
Мало указать пальчиком на порок. Его и без меня все знают. Вот как заставить человека двигаться?
И если я своим романом подниму хоть одного лежебоку и выведу его в погожий воскресный день пройти хоть два километра по зимнему лесу, заставлю его задуматься о его здоровье, о закалке, я буду считать, что роман сложил не зря.
Но этот роман не только о переходе через Байкал. Этот роман ещё и развенчание мифа о журналистах. В книгах, в кино нынче журналист – обаятельный проходимец, которому можно всё, который всё может. Это ложь. В жизни журналисты разные. Много среди них болезненно порядочных, непьющих, честных перед каждой своей запятой.
Какой-нибудь дилетантишка, ратующий за трупную гладкопись, задёргает носом, дескать, многовато в романе местных слов. Пускай дергает. Это его право, да и нос его, но я пишу не для него, ни одним тугим народным словцом, услышанным на байкальской земле, я не поступлюсь. И в книгах люди обязаны говорить так, чтоб было возможно ясно отличить, что это говорит сибиряк, а это говорит воронежец. В работе у меня един судья, един Бог – великий Владимир Даль, мудро сказавший:
”Народные слова наши прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу себя ошибкою, а напротив, всегда направляя его в природную свою колею, из которой он соскочил у нас, как паровоз с рельсов”.
Да, писательский паровоз соскочил с рельсов и его надо вернуть на его рельсы, чтобы он мог идти дальше. Пока же он пыхтит, пробуксовывая на месте и выбрасывая тонны никому непотребной литературной мертвечины.
Надо писать на том прекрасном, добротворном языке, на каком говорит твой народ, а не на эсперанто, ибо, по Далю, ”коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на том, что мыслим не на своем, а на чужом языке, то мы уже поплатились за языки дорого: если мы не пишем, а только переводим, мы, конечно, никакого подлинника произвести не в силах и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав к другому, мы и остаемся межеумками ”.