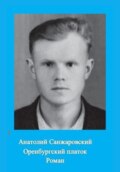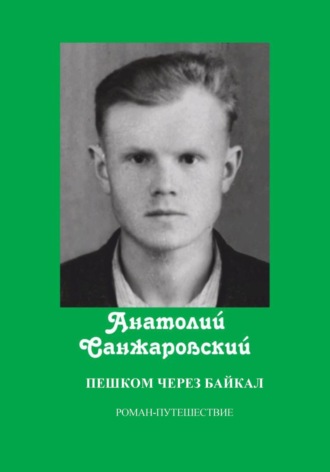
Анатолий Никифорович Санжаровский
Пешком через Байкал
3
Всякая избушка своей кровлей крыта.
Жена мужу пластырь, муж жене пастырь
Напротив за откидным столиком в скуке провожала время тоненькая обаяшка с медицинским сундучком.
Светлана.
Медсестра.
То, что с нами ехала не крестная сила, а медицина, успокаивало как-то.
В соседнем купе девушка счастливо просила:
– Золотце, спой!.. Ну, спо-ой…
Дрогнула на гитаре струна. Красивый молодой голос повёл песню:
– А под ногами, сквозь туман,
Встаёт хребет Хамар-Дабан…
«Боже мой, если б ты знала, – писал я жене, – сколько ещё сору у меня не только в карманах, но и в голове: я отважился идти пешком через Байкал. А, будь что будет… Для сибиряков это обычная прогулка… Все на лыжах, один я так. 45 км! Это не любовь твоя Невский, даже не Новый Арбат.
И выжал, вытолкал на променаж кто бы ты думала? Небезызвестный дружок юности. По старой памяти всё довоспитывал, в ранешние годы не успел: ”В наш грустный век машин, в век лени не грех побольше хаживать, иначе превратишься в пристяжку к мотору”. Тоже мне… Мартын с балалайкой, а туда же, в академики! Было не расплевался с ним.
Забраковал мои он ботинки, снял с лыж свои, всучил.
"И пальто, – командирничает, – не бери. Не донесёшь. Да и по коленкам окаянное будет хлыстать. А вообще-то, друже, в дороге и бородавка за пуд тянет…"
Взаменки дал штормовку, брезентуху свою. Кажется, домодельная.
У Николки у нашего в одних санях катаются "тонкая тактика и грубая практика".
Распрекрасно помню твоё: хочу в Сибирь, там все меха бегают. Покуда не совстрел. А нападусь если на Байкале на какого подходящего, обязательно дам ему наш адрес – попрыгает к тебе. Только уж очень не жди.
Простучали границу бурятскую.
Уже час ночи.
Скоро Танхой. Там пущу тебе письмо.
Из Танхоя союзом пойдём через Байкал. Карточка твоя со мной, значит, пойдешь и ты, маяточка моя».
4
Плохо знают люди, чем человек хорош.
Всякая сосна своему бору шумит.
Танхой.
Глухая ночь без звёзд.
Весёлый, гомонливый людской ручеек изгибисто течёт по тропинке меж плетнями от вокзальчика к школе.
В просторном спортзале самые проворные валятся впокат на маты: перед дальней дорогой сон не во вред.
Распахиваются рюкзаки.
Как-то непривычно подкрепляться в столь поздний час, но в охотку все едят, набивают в оба конца. Почему не облегчить рюкзак и мне, всё легче будет. Тем более, что есть отчего-то манит…
Скоро вкореняется тишина.
Покой до трёх.
Общим повалом, головами к стенке, лежат на матах тесно, боком; засыпают сразу, засыпают крепко – как пропащие.
Всем места на матах не хватило.
Лежат лоском, вповалку, и прямо на жёлтом крашеном полу. У каждого что-то такое приискалось, что можно было пихнуть под бок.
В зале убрали свет.
В предбаннике горит. Там толклись немногие, кто не собирался спать. Двое парней точили палки лыжные да парочка шушукалась у подоконника.
В угол к баку с водой прожгла девушка в красном. Рука прижата к щеке: зубы. Щёку порядком разбарабанило.
Хватила в рот воды, мёртво, с закрытыми глазами, постояла, с опаской чуть отдёрнула руку от щеки. В жалких глазах мелкая пробилась улыбка. Вроде полегчало, вроде отпустило…
Следом за девушкой в красном в зал правятся труськом на цыпочках пятеро или шестеро ребят. Вместе с ними проявилась в предбаннушке и Светлана, последней вот вошла со двора.
Спать Светлана не пошла, остановилась, сердито повела глазами на парней, что пропали в темноте за закрываемой с потягом дверью.
– Ну не нахалюги?! Это всё наши асы. Штабисты. Только что с совета. Как вам понравится? Не с велика ума в рукойводители переходом втёрли разъединую в штабе девчонку.
– С повышением, Светлана Ивановна!
– Тоже мне одна радость в глазу… Как же, доверили! Абы столкнуть на кого попыдя… Не к душе мне всё это, не к душе…
Ей так шло сердиться!
Чем больше сердилась, тем притягательней становилась она и – странное, необъяснимое дело – то, на что она сердилась, на что жаловалась, быстро и верно теряло всякую значимость, всякую силу; вовсе не сострадать – ломало тебя улыбаться ей.
– Как к начальству сразу вопрос. Что новенького мне в блокнот?
– Ну что там может быть? В рабочем порядке обговаривали детали. Раскомандировка такая. Давать ориентир, торить лыжню будет передовая группа. Впервые такая пропасть народу. Сто тридцать гавриков! Люд ото всей области. Бамовцев наших порядком поднабежало.
Из горушки рюкзаков Светлана выдернула свой, что-то достала. Не спеша надела бахилы, ещё один свитер.
– А теперь я тё-ё-оопленькая, – оглаживает на плечах свитер. – А теперь я гото-о-оо-венькая к свиданию с Байкалом…
Протягивает и мне зелёный свитер. Надевайте!
Я не отказываюсь.
– Вы бы поспали, – говорит она, – а то тяжело идти… – И, медленно, вроде бы даже нехотя направивши шаг к улочной двери, добавила, будто в оправдание: – Схожу-ка в столовку. Гляну, что там да как…
В окно я вижу, как она, бело посвечивая себе под ноги фонариком, прошила по тропке к принизистому дому напротив с ярко горевшими окнами; в доме разлив света, такое море света, что ему, поди, тесно там, он не вмещался и широкими тяжелыми полосами, раскроенными крест-на-крест переплётами, громоздко вываливался на снег.
Её свитер дал, набавил тепла, умиротворённости. Только сейчас мне стукнуло: эту одежинку она носила сама, живое это уютное тепло – её!
Уставившись в окно, я почему-то ждал её возвращения. Зачем? Вот с минуты на минуту войдет она, что я скажу?
Но ни через минуту, ни через полчаса она не вернулась.
А если там с нею беда?
Кинулся я в столовую.
Добегаю до угла, вижу: за неплотными занавесками в компании какого-то парня и деда Светлана чистит картошку.
Гм… Не переживайте слишком, сударь. В этом купе все места заняты!
Потерянно, как-то покинуто побрёл я назад.
Оглянулся.
Над столовой чёрно обваливались неприкаянные комья дыма.
Рядом с тропинкой, в ямке, вырытой в аршинном снегу, трое доваривали, судя по запаху, курицу. Убито спало всё живое вокруг. Из-под кольца лыжной палки крайками вздрагивал под толчками ветра нарядный импортный пакет – варилась не местная, а дальнестранная курица.
Покойно, согласно лилась беседа; невысокое пламешко тускло желтило задумчиво-восторженные молодые лица, сорило плотными искрами.
Срывался снег.
Разламывая широкие плечи, из зала вышел, закрывая глаза от крутого света кулаками, коренастый чернявый парень.
Оказывается, ему идти в первых. Не спеша достал из кармана компас, взял азимут на Листвянку – 338.
В осторожности распохаживая под дверью, сажает к себе на запястье рядком с часами и компас. Рука сильно вывернута, мне с подоконника, где прокуковал полночи, расхорошо видать. Часы выстукивают три.
– Хватит баклуши сбивать! – не успев ещё войти, через порог плеснула Светлана парню. – Ну-ка, милочек-огонёчек, давай буди!
Парень отчаянно-радостно размахнул до предельности дверь в зал, ощупкой нашарил выключатель, степенно добыл большого огня.
– Да будыт свэт! Ужэ тры нола-нола!
Он был кавказского замеса.
В тон ему и Светлана говорит громко. Слушай все:
– Кто не хочет – может спать! А завтрак, между прочим, заказан на всех. От а до я!
Две столовские бабы, на кассе и на раздаче, вскочившие к котлам в полночь, абы накормить экую тучу, весело пересмеивались и в открытой радости поглядывали на своих доблестных помощничков.
Быструха парень, пожалуй, тот, с кем Светлана чистила картошку, в клеёнчатом переднике, шально съехавшем набок, проворно собирал со столов несвежую посуду, горушками оттаранивал на кухню и там – видно было в раздаточное окошко – горячей, паровой водой её мыл плотно сбитый бородач.
Через малые минуты, нахваливая завтрак, уже последняя группа молотила на полный рот.
Я давно отстоловался, но уходить не уходил. От этого тёплушка, от этой чистоты, от этого спокоя не летелось в ночь, в метель.
– За полчаса, всего за полчаса эку оравищу дурноедов напитай! Стахановцы!
Светлана с улыбкой подавала поклоны и раздатчице, вытиравшей со лба пот, довольной, что к ней уже никого не было, и кассирке, что подбивала выручку, и мойщику в окошке, в ответ с поклоном тронувшему рукой низ своей курчавистой могучей бороды.
– А спасибко давать в первую очередь надо Гене, – сказала раздатчица. – Разворотливый…
Осадистый парубец, вихляя со столбиком тарелок к синей кухонной двери, оглянулся на те слова, сконфузился лицом и, накинув прыткости шагу, припадая набок, счастливо пропал за дверью.
– Он у нас штабист, – пояснила мне Светлана. – Будет замыкать колонну. До Бама Гена в Танхое жил. Мы заране и снаряди его гонцом. Просили сорганизовать спортзал. А Гена прояви от себя общественную инициативу, заказал и завтрак ещё. С завтраком такой крутёж… Полстоловки гриппует, так Гена с вечера примчал сюда. Дед, неспокойный Николай Митрофанович Ефиркин, вслед хвостом. Накроили гибель дров, картошки начистили пять вёдер. С вечера так и не уходили…
– Вправде, дочуня, выдержали рекорд, не ходили, не ходили, – готовно отозвался старик, на ходу промокая руки полотенцем, что было вправлено одним концом под ремень на боку. – Люди мы небольшие, нуждица кликнула, мы с Генушкой, как армейцы, – валенок к валенку, подушечки пальцев к виску, натянуто подобрался, – тут как тут. Ну раз надонько, какие речи?
– Устали? – спросил кто-то.
– Э-э, – посмеиваясь, старик вяло повёл руки врастяжку, – не устаёт один Бог. А я… самый давний танхойский извековалец… Всю жизнь втуточке толкусь на одном местушке, стал быть, головной сибиряк, корневой… Вишь, однако запятая-то какая – надёжа на меня, как на вешний ледок! – потерял уже восемьдесят четыре золотых годика…
Он так и сказал, виноватясь, с детской горечью: годика, именно так, никак иначе, я не ослышался. Кроме горечи в его голосе, в лице было и детски-светлое удивленье, казалось, он и сам временами не верил своему уклонному возрасту, удивлялся, вроде года эти – так, пустое что невзначай сронил с языка, вроде это и не его года и вроде как его.
Но со стороны ни в какие силы ему не дашь его закатные, потопные года. Молодой, весёлый, крепкий румянец горел на тугих щеках, на которые высокие стариковские лета так и не осмелились накинуть сетку из морщинок. Не дед – роскошь! Одна борода всех богатств сто́ит!
Похоже, мой телячий восторг подбил старика похвалиться: простодушное сердце не терпит.
– Однако давнушко поставили меня на инвалидность, по-вашему, ссадили на пенсию по годам. А я как был вечно плотник, да так и остался. По се день хожу в совхоз. Не изработался, не истёрся ишо… Хватливый ишо так. Где починить, где состроить чо, там на вспохвате и я. Ничо в свете не надобно, абы топорок в руках… Не сплетни сплетаю. Во-он Генушка не даст почём зря брякать.
Гена – он вытирал соседний стол – согласно кивнул, подплеснул маслица в огонь, отчего старик, брызнув ясной улыбкой, пустил слова свои вольней, разбежистей.
– А чо! Не в престарелом, чай, доме… Ходи свети топорком! С бабкой мы одне в избёношке. Сподрушному хозяйству… какое оно там? – кот да веник! – бабка одна управу даст. Наизаглавно мы с ей ишо когда обладили! Ребятёжи полное накопили лукошко, впустили в жизню однех сыновьёв семь. Се-е-емь! С мальства никого не сняли с учебы. Все имеют грамотёшку. Все на все руки годные, служат кто где… При нас ни одного. Чем прикажешь заняться? Пинать воздух? Бабка – она у меня рекордная, с лица хорошая и так развитая на все стороны – навроде бы при делах-заботах. Норовит нигде не проспать… Покудова с пенсионерией перемоет известия все колодезные, и дня уже нету. Удёрнуло, забрало трудовой день, был, да весь вышел, сгас, недосуг и болячки свои стариковские понянькать. Поохивать, вишь, стала… Я покуда, Бог миловал, исправный здоровьем, не износил ишо. Век свековал, был тощей соломины. А в поза-тот год разморде-ел, навёл тело, широконько подправился. Прям бока заворотились!.. А… Глазами доволен, не тяжёлый на ухо, перевышение кровей, давление, – это игрушка ишо не моя…
– А одышка чья игрушка? – с напряжённым смешком подколол Генка, пробуя взять со столешницы горку тарелок.
– Собирай боле! – взбросил глаза вприжмур дед. – Генушка, бесхвостой ты ветродуй, где ж твоя стыдобушка? На кой жа ты перед заезжанином офальшивил дедку своего? – конфузно, уговорливо выпевал вослед Генке старик.
Вприбежку Генка нёсся с посудой на кухню и, похоже, не слышал.
– Терпи, голова, в кости скована… А! Это у него, у просмешника, так, с морозу сорвалось… Одно пустое, милок, званье, а не опышка… А хоть и… Чё ж теперь, скласть ручки? Молиться на её? У меня не дождётся! Мало-малешки ну давит… Топорком отбиваюсь, покудова не вышел из сил. А успокоюсь, угребу топорок туда, накажу в оголовье положить. Жили-были союзно ладом, вместе хорошо и отмирать.
Во весь разговор старик от души, просветленно насмеивался. Видите, ему даже помирать хорошо.
Боже, да настань та минута, он, гляди, и смерти посмеётся в лицо.
Привернувшийся к моменту фотокор из областной молодёжки всё постукивал меня скобкой указательного пальца в локоть, восторженно шептал:
– Дедулио на разговоре хороший. Любит поговорить… Ну и уважь, потолкуй ещё за жизнь, дай на последе ещё хоть разок щёлкнуть. Ничего подобного не снимал… Не улыбка – праздник! Так и просится в кадр! – и, припав на одно колено, отстраняясь верхом, всё щёлкал, щёлкал…
Старику поглянулось сниматься, и он, уловив, что заезжанам всякое словцо про тутошнее в интерес великий, помалу подтираясь, приподлизываясь, заискивая, порядка ради спросил нашего согласия на одну историю и тут же, разумеется, получив его, накатился повествовать про Байкалову дочку Ангару и про богатыря Енисея – одной этой легенды довольно, чтоб насниматься дуриком досхочу.
"Давным-давно жил в нашем крае могучий, седой богатырь Байкал. Не было во всей стране равного ему по силе и богатству.
Суровый он был старик. Как рассердится, так и пойдут горами волны, так и затрещат скалы. Много рек и речушек было у него на посылках.
Была у старика Байкала единственная дочь Ангара. Первой красавицей она слыла во всём мире. Очень любил её отец-старик. Но строг был отец к ней и держал её взаперти, в неведомых глубинах.
Не давал ей старик даже наверх показаться. Часто, часто тосковала красавица Ангара, думала о воле…
Прилетела раз на берег Байкала чайка с Енисея, села на один из утёсов и стала рассказывать о житье-бытье в привольных степях Енисея. Рассказывала она и о красавце Енисее, славном потомке Саяна.
Случайно подслушала этот разговор красавица Ангара и загрустила…
Ёще раз она услыхала о красавце Енисее от горных ручьёв и ещё более заскучала.
Решила наконец Ангара сама повидаться с Енисеем.
Но как вырваться из темницы, из крепких высоких стен дворца?
Взмолилась Ангара Богам и Богиням:
– О вы, тэнгэринские Боги,
Хоть сжальтесь над пленной душой,
Не будьте суровы и строги
Ко мне, окруженной скалой.
Поймите, что юность в могилу
Толкает запретом Байкал…
О, дайте мне смелость и силу
Раскрыть эти стены из скал.
Узнав о мыслях любимой дочери, Байкал запер её крепче и стал искать жениха из соседей – не хотелось отдавать дочь далеко.
Выбор старика Байкала остановился на богатом и смелом красавце Иркуте. Послал старик Байкал за Иркутом.
Узнала об этом Ангара и горько, горько заплакала. Взмолилась Ангара старику отцу, просила не отдавать за Иркута: не нравился он ей.
Но Байкал не слушал, еще глубже спрятал Ангару, а сверху хрустальным замком замкнул.
Взмолилась снова Ангара богам и богиням.
И решили ручейки и речки помочь ей. Стали они подмывать прибрежные скалы.
Близилась свадебная ночь. Крепко спал в эту ночь старик Байкал. Ангара взломала замки и вышла из темницы.
А ручейки все рыли и рыли. Старик всё ещё крепко спал… Но вот проход готов. Ангара с шумом вырывается из каменных стен и мчится к своему возлюбленному Енисею.
Вдруг проснулся старик Байкал – что-то недоброе увидел он во сне. Вскочил старик и испугался. Кругом шум, треск. Понял старик, что случилось. Рассвирепел. Выбежал из дворца, схватил с берега целый утёс и с проклятием пустил им в беглянку дочь.
Но поздно… Не попал. Ангара была уже далеко.
Этот камень так и лежит до сих пор на том месте, где прорвала утёсы Ангара. Это и есть Шаманский камень.
А Иркут тем временем запоздал в пути и заночевал в тридцати пяти верстах от Байкала. Вдруг наутро слышит вдалине шум, треск.
Смекнул Иркут в чём дело. Он ещё раньше знал об Енисее через птиц кедровок и хариусов скользких.
Решил Иркут перерезать путь беглянке. Вернулся немного обратно и стал пробивать скалы наперерыв Ангаре.
Но трудно было это. Медленно шел Иркут. Наконец скалы пробиты и Иркут быстро помчался по долине.
Однако поздно… Ангара отбежала уже дальше. Она уже приближалась к Енисею.
Так Ангара достигла Енисея.
А старик Байкал мечтает до сих пор догнать беглянку; и если Шаманский камень сдвинуть с места, Байкал выпрыгнет из берегов и настигнет свою дочь, затопив все пути своими водами”.