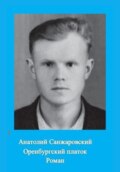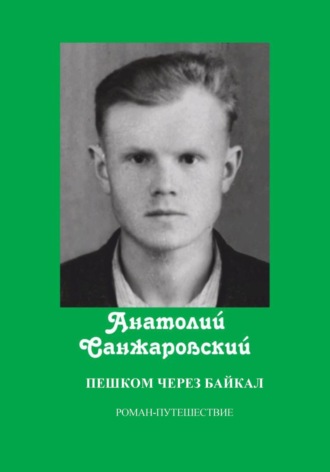
Анатолий Никифорович Санжаровский
Пешком через Байкал
8
Нет таких трав, чтоб знать чужой нрав.
Что дал Бог, в лавочке не купишь.
Погода как-то разом занесгодилась, сломалась.
Полегла вокруг хмара, всё помрачнело: сбежались в одну кучку тучи, грянул крупный, в пол-лаптя, снег, посыпал, Бог весть куда куражливо гонимый ветродуем с холодной, с дедовой, стороны.
Быстро забивало, забирало лыжню, рвало последнюю ниточку, что вела к людям, к жизни.
По редким мелкорослым сугробикам, взбитым той троицей сбочь лыжни, я кой-как угадывал путь себе и вовсе забыл, кто я, где я, зачем я, со смертным ужасом торопил себя, настёгивал; лёглый снег присел, пошёл куда мельче, легче, чем у заберегов; ясно я чувствовал, что уже касаюсь льда, однако совсем лысые мои ботинки почему-то не скользили, я не падал.
В слепой тоске озирался я вокруг. Дальше рукавицы ничегошеньки в целом свете не видел: плачущие, стонущие чёрные снега секли со всех ветров.
Пропали, потерялись последние, уже чутьём угадываемые, ориентиры лыжни; я бежал подходящими, просторными прыжками, бежал так, чтоб дурноверть била в левый бок, потому что я расхорошо помнил, когда ещё была видима лыжня, ветробой шёл, толкал слева…
Звончатый голос в спину:
– Байкальская пробежечка повы-ы-ыгонит все шлаки… Поспу-у-устит лоск с лица…
Оборачиваюсь – Генка!
– Ну что, Гена, проводили? – обрадованно спросил я лишь бы спросить, лишь бы слово слышать живое.
– Вернул Танхою этот брачок.
– Кого, кого?
– Байкал забраковал их, – Генка качнул головой назад, – отсортировал… Вот где конторка строгая! – с пристуком подолбил палкой в лёд. – Без выходных, по все дни работает, по субботам тож… Доведись до любого, Байкал слабого не примет… К слову, в Саянах ли там, на Алтае ли, можь быть, в категорийных походах бывали?
Не знаю, что и отвечать. Расплох всякого губит.
– Да если, – отдаю первые недумные слова, – походам по магазинам за продуктами прилепить категорию, тогда быв-в-ва-аал.
– А без шутья? – настороже скосил Генка глаза в мою сторону.
– А без шуток – нет.
– Ахти мне! Бож-ж-ж-е-ечко ж мой! – Гнев и ужас вытянули его лицо. – Да как же вы отсмелились пойти с краю на край?!
– Ногами… Как же ещё?.. Это у меня вроде проверки сил…
– Тоже мне нашли место… Иль Байкал – Сокольники? Только отстегнулись от берега – уже одни-разъедины позади…
Он вздохнул на весь Байкал.
Я смешался, опал духом.
Недоброе предчувствие толкнуло в душу. Горячие Генкины взгляды жгли, виноватили меня во всём, рвали нервы.
Во мне вызрела, выщелкнулась злость.
– Не всем же блистать впереди! – огрызнулся я. – Кто-то должен и замыкать.
– Не кто-то, к вашему сведению, а я замыкающий.
Вкрадчивый, липкий его голос обволокла глушинка.
– У людей, мой быть, дело нынче годовое!
Помолчал он, подумал, крутнул головой:
– Не-е. Бери выше. Вековое! Раз такое на веку! День по часам разложен! А вы… не к моменту, не под раз вы с проверочками с какими-то. Ей-богу, как на смех!.. Не будь вас, где б уж я был? А так, – с внутренним озлоблением выворачивал он, – когда дочихаем?
Возразить было нечего.
Стыд подпалил меня, загорелись пятки.
"Понадеялся на авось, а авось-то без колёс…"
Воистину, совесть с молоточком: и постукивает, и наслушивает.
Растерянно взглядывал я на Генку; ладясь хоть сколь-нибудь вывести из беды, затянуть, покрыть вину свою и перед ним, и перед основными войсками, что уже ушли вразбив далеко вперёд, я до самого нельзя налегал на бег.
Видимо, скандальное зрелище это, умаянный мой бег, смотрелось со стороны ненадежным, раз Генка устал накидывать обиняками и ясней ясного повёл свое русло – этого воробья на соломе не обскачешь.
– Есть, – жал он напрямки, – информация к размышлению. Отошли мы от Танхоя всего три кэмэ. До Листвянки ещё сорок два. Точно-в-точно. Куда, вы считаете, ближе?
Намёк на возвращение был слишком прозрачен.
"Вернуть назад? Вот так за всяко-просто взять и вернуть? Вернуть?.. Не-ет! Это возвращение из сорта роковых. Дать вернуть – дать поставить на себе крест?.."
И мне ясно привиделось, как, колыхаясь, траурно шурша, откуда- то сверху чёрным извивом стекла передо мною лента, широкая, огрузлая, и тут же отвердела, у ног моих вмёрзла в лёд; секундой потом этот окаменелый чёрный столб прошила поперёк такая же чёрная лента.
Уже и шагу не мог я взять вперед. Не пускал чёрный крест.
Глянул в один бок обойти – крест, я в другой – и там.
Креста не было только позади.
– Н-нет! – гаркнул я крестам.
– Что нет? – натянул Генка губы.
– А то, – в тихий голос положил я твёрдости, – что лично мне Листвянка ближе.
– Во-он оно как! Три больше сорока двух! Да не хотите вертаться – Байкал вам судья!
И, внаклонку ожесточенно отталкиваясь палками, он, молодой, ловкий на ногу, как-то разом, в момент, оторвался, отпал от меня, стал как на курьерских уходить.
"Удираешь, чёрный зверина?! Пошёл вали! Не дорого дано, не больно жаль…"
Вошёл я в распал – бросил к чертям пластаться, побрёл расшибленным шагом…
И снова редел снег; и снова пробивалась на небе ясность.
Свежая Генкина лыжня была мне лучшим провожатым.
Я мёл по прилепушке, обочь лыжни. Идти по самой по лыжне куда легче, и мне в охотку идти по ней, и ноги сами брали к накатанному глянцу пары вдавышей-желобков, но всякий раз, когда нога подымалась-таки над глянцем, я опускал ёё рядом: а вдруг лыжня ещё кому послужит?
9
Делать добро поспешай.
У часу гнев, у часу милость.
Милость и на суде хвалится.
Долго ли, коротко ли, но покуда вышагивал я один, заблазнило мне напиться.
Ставлю в набой, в сугроб, рюкзак. Распускаю шнурок.
– Отставить!
Смотрю, на всех парах катит Генка.
Странно, странно не его возвращение, а странно то, как показалось, возвращается он в самый неподходящий момент лишь бы скомандовать под руку:
– Никаких самодеятельных привалов!
Как ни крути здесь он мне начальство. От этого никуда не денешься.
– При чём тут привал? – ищу оправу, оправдываюсь я. – Я ж только капельку попить…
– Это что ещё за новости в тапочках? И на полизушку нельзя!
– А дышать можно?
– Дышать дышите, а пить нельзя. Ни водинки!
– Если не секрет – почему?
– Ну нельзя и точка. – Он был тверд, как параграф. – На правду сказать, только ж отлипли от берега. Вон я, между прочим, не кончаюсь, а тоже не пью…
– Оно, конечно, все не пьют до поднесеньева дня, – выставил я зубы.
Генка не пояснял своего запрета.
Я и выреши, что запрещает он лишь потому, что всякий начальник на то и начальник, чтоб хоть что-то да запрещать. Надо же оказать свою власть!
И я продолжал расшнуровывать рюкзак. На конце концов, чай мой. Пью, когда хочу!
С подозрительной вежливостью Генка попросил у меня рюкзак.
Я не мог быть невежливым.
Посмеиваюсь в душе, подаю с поклоном. Мол, не потащишь сам, отдашь назад.
Генка же спокойно сунул его в свой громадный, наполовину пустой рюкзачище, вскинул на спину и молча вперёд.
Только тут я заметил, пёр он два тяжеленных рюкзака.
Мне стало не по себе.
– Ген, а давай помогу. Отдай один… где мой…
Он ничего не ответил.
Через какие-то мелкие минуты к нам вернулся рослый парень, кто называл Генку потолкунчиком, бросил ему короткое "Помогу". Сгрёб один, именно тот рюкзак, где был мой, и пошёл рвать версты.
– Ге-ен! Остановите его, – крикнул я.
– Боря! Зверев!
Парень не остановился. Лишь оглянулся, упёрся крупным сильным подбородком в плечо.
– Что сказать этому Быстроногому Оленю и по совместительству моему краснокожему брату и другу? – спросил меня Генка.
Неловко мне было сознаться, что я все-таки до смерти хочу пить. Я махнул Борису: беги.
Какое-то время мы с Генкой не могли найти речей, шли молча.
Он больше не отрывался, скользил рядом и с виной в глазах поглядывал на меня.
Я первый не вынес молчанки. Спросил:
– Так почему ж нельзя?
– Ну-у, хоть бы… как само враз… После удаления аппендицита не резон тут же кидаться на бублики…
Я вздрогнул.
Лет семь назад я был в Батуме.
Боль сбивала с ума, вертела по-страшному.
Боль переломила меня не надвое ли. Всё время я держался за живот, будто боялся его ненароком потерять, и умученно семенил боком.
Целых три дня метался я в горячке по Батуму. Только потом наладился домой, в Москву, когда сделал по командировке всё.
В Белореченске, в сонном кубанском городишке, меня сняли с поезда.
Ласковая, славная норовом нянечка сцепила в нитку тонкие старые губы, принялась в больничном коридоре скоблить мне грудь сухой безопаской. Выкладывала бабуся все силушки.
– Вам желудок будуть ризаты, – шепнула по секрету.
– Не будут.
Я положил руки на грудь крест-наперекрест.
– Иль вы вышли из толка? – осерчав, всё так же шепотливо отчитывала ласковая нянюшка. – Доведись до мене, я дорого не запросю. Напрямо зараз пиду пожалюсь самому наиглавному.
– И чем быстрей, тем лучше.
– Добре. Я вжэ пийшла, парубоче. Вжэ пийшла.
И действительно пошла.
В скорых минутах залетает хирург, всполошённая снеговая гора.
От большого, великанистого его халата в коридоре враз посветлело.
– Больной! Вы что же, и на нитку нам не верите? Почему без митинга не даёте брить грудь? У вас язва желудка!
– Доктор, извините, пожалуйста, но зачем вы наговариваете на мой родной желудок? И разу ж не болел! Гвозди кривые глотал – прямые выскакивали! Что хотите, а желудок не дам почём зря раскроить.
– Совсем врачи вышли у вас из веры…
– Я, доктор, от себя такого не слышал… Пока это вы сами на себя наговариваете.
Хмыкнул доктор.
Добросовестно упёрся мне тугим пальцем в живот, резко отнял – свет выкатился из глаз моих.
– Куда боль пошла?
– В низ правого бока.
Он нажимал ещё и ещё – понравилась дяде игрушка…
Кончилось всё тем, что нянечка, уже ничего не говоря по секрету, вовсе другое выголила место внизу.
У меня убрали, как сказал доктор, страшно некрасивый, переспелый аппендицит.
Следом за мной прооперировали "на ту же тему" ещё одного. А под утро, на первом свету, едва начинало синим мазать окна в палате, он умер от спайки кишок: ночью умял все бублики, что впотаях приплавила жёнка.
Дня три-четыре я толком и разу не ел, совсем без охоты к тому всё было.
А тут потянуло, позвало подкрепиться как следует. Мне ж помимо водички ничего путного не давали.
Дом далеко, передачи носить некому.
Как я просил хоть один бублик сбить охотку, а казачок и пожадничай…
Вспомнил я эту историю – разом утянуло, забрало жажду.
С виноватой благодарностью заглядываю Генке в глаза, со смешками подкашливаю, как мышь в норе.
– Что подкашливаете? Богатую любите?
– Очень богатую! Душой, лицом, станом… Одно слово, отдай всё и мало! Но сейчас!.. Будь у меня шляпа, Гена, ей-бо, снял бы перед Вами.
Не знаю, чем я расположил его к себе, не знаю, чем я вошёл к нему в добрые, только кинул он широко рукой, сказал:
– А послушайте… Непутно получается у нас как-то… А давайте на ты. Ну чего выкать? Не дипломаты!
– Давай попробуем, – потянулся я к согласию.
– Ну так скажи, куда ближе?
– Само собой, к Листвянке! Сколь уж пропёрли… И потом, не обучен я рачиться на попятный двор.
– А до переднего двора… Сердчишко-то как? Не зачастит?
– Да терапевт вроде пел, что оно у меня, как мотор у новенького ТУ сто с лишним.
– Ну-у, тогда ты, орёлик, стопроцентно наш! Что ж я, леший- красноплеший, сбиваюсь с ума?.. Вот что… Кончай бежать, кончай рвать с огня. Иди спокойно. Забудь, что все ушли. Иди пока один. Я слетаю на передовую к своим, возьму на всякий случай компас. Тогда сама дьяволова пурга нам не в страх. Точка. Абзац.
10
Велика святорусская земля, а везде солнышко.
Солнышко на всех ровно светит.
Потихоньку выведрило, разгулялась понемногу погода.
Милостиво расступились, раздёрнулись тучи. В сине оконце солнышко глянуло.
Возвращался Генка в солнечном уже кругу.
Круг стремительно раздавался, рос. Светополье накатывало широко, могуче. Рай шел…
Разом всё окрест вспыхнуло белым пламенем. Куда ни пусти взор – бело, так бело, так ярко, что ломит глаза.
Без защитных очков чистая беда. Чего доброго, снежную ещё слепоту наживешь.
Впервые на своём веку пожалел я, что отправился загорать, а нарочно не взял тёмные очки: не поверил в марте сибирскому солнцу.
На разостланные вокруг богатые снега не взглянешь в полные глаза. Будто во спасение подвернулась полянка чистого, без снега сверху, льда.
Окаянную его черноту сердце не терпит, затолклось в непокое.
Тишком да бочком подбился к острому кончику схожей с саблей белой намети, стал как присох, а пустить шаг дале, ступить на сам лёд нет меня. Тонколёдица до такой ясности прозрачна, что, кажется, стань – ухнешь в эту в чёрную дурноверть.
И всё ж сбился я силами – стал. А став, почувствовал себя не прочней мальца, пробующего ходить; и причудилось, плотный молодой голос просит из детства: дубо́к стоять, дубок!
Ясно расслышал я весёлое мамино повеление держаться прямотело, не падать – разом крутнулся на голос, внаклон покачнулся, растаращил руки…
Устоять я устоял. Но на видах моих никого не было. Никто не звал, никто ничего не хотел от меня.
Лёд не трещал, не ломился.
Твёрдо, крепко всё подо мной.
А на душе ненадежно, без ран душа болит.
Всё кажется, лёд в смерть тонок, всего-то какая плёнка, слабая, прозрачная, скорей, призрачная.
Ложусь. Так оно спокойней.
По книжкам, озеро самое чистое. Вода в нём, твердит поверье, целая – целебная, оживляющая, приворотная; кто ею умоется, на весь век останется тут жить. Сквозь толщь воды в охотку увидать постель-дно, подсмотреть, на чём оно, славное, лежит-отдыхает под одеялом из саженных льдов.
Но дальше носа глаза мои не берут.
Прямо напротив лица – звёздное скопище трещинок, пузырьков; на локоть переполз – уже лунный пейзаж, рядом – опрокинутая веретёшка с сорвавшимися с неё нитками белыми (к разу вывернулась из памяти загадка про веретено: "Пляшу по горнице с работою моею, чем больше верчусь, тем больше толстею"), дальше очёсок ком, мерклое личико прялки…
Ни дать ни взять к ледяной к пряхе в гости привернул.
И диво это Сударыня Природа наряжала всю-то зиму зимнюю.
Неожиданно где-то справа раздался невозможно большой силы звук, что напоминал тот, когда из гигантского лука пустить исполин стрелу.
Стрела пролетела не поверху – прошила подо мною, с глухим стоном разламывая лёд: и в ту и в ту стороны чёрно лилась трещина в полпальца, которой ещё мгновение назад не было.
Власть самосохранения подбросила меня. Во весь опор рванул я вперёд, туда, где в порядочном отдалении маячила изогнутая в скобку наша колонна; бежал я по натянутым ветром белым струям, что казались мне надёжней голого льда, а потому давали ему державу, как дают её обручи кадке; бежал пригибаясь – вой летящих там и там стрел, пушечная пальба гремели со всех сторон; каждый миг шёл в цене за последний.
Страхи мои, на счастье, жили не век, жили, куражились ровно до той минуты, покуда не вспомнилось слышанное-читанное про тайности тутошнего льда.
А описал первым эти тайности русский посол в Китае Николай Спафарий (по пути в Пекин он в 1675 году переехал Байкал):
”… а зимнею порою мерзнешь Байкал начинающе около Крещеньева дни, и стоит до мая месяцы около Николины дни, а лед живет в толщину по сажени и больше, и для того на нем ходят зимнею порою саньми и нартами, однако до зело страшно, для того что море отдыхает и разделяется надвое и учиняются щели сажени в ширину по три и больше, а вода в них не проливается по льду, и вскоре опять сойдется вместе с великим шумом и громом, и в том месте учинится будто вал ледяной; и зимнею порою везде по Байкалу живет под ледом шум и гром великой, будто из пушек бьет (не ведущим страх великой), наипаче меж острова Ольхона и меж Святого Носа, где пучина большая”.