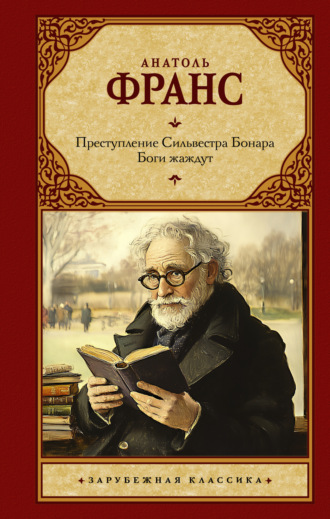
Анатоль Франс
Преступление Сильвестра Бонара. Боги жаждут
В 1813 году господин де Лесе, давно вдовевший, женился, лет пятидесяти пяти, на очень молодой женщине, которую привлек он к рисованию географических карт, но она, подарив его дочерью, умерла от родов. В кратковременный период ее болезни за ней ходила моя мать; она же позаботилась о том, чтобы у ребенка было все необходимое. Ребенку дали имя Клементина.
Это рождение и эта смерть положили начало знакомству моей семьи с господином де Лесе. Выйдя в то время из ребяческого возраста, я помрачнел и отупел: исчез пленительный дар чувствовать и видеть, события и вещи больше не увлекали своей манящей новизной, – а в этом и состоит очарованье детских лет. Вот почему и не осталось у меня воспоминаний о времени после рождения Клементины; знаю только, что немного месяцев спустя меня постигло такое горе, что мысль о нем еще теперь сжимает мое сердце. Я потерял мать. Великое молчание, великий холод и великий мрак вдруг завладели нашим домом.
Я впал в какое-то оцепененье. Отец отправил меня в лицей, и только там с большим трудом мне удалось выйти из нравственного столбняка. В конце концов я оказался не совсем тупицей, и мои преподаватели выучили меня всему, чему хотели, иными словами – немного латинскому и греческому языкам. Я имел дело только с древними. Научился ценить Мильтиада и восхищаться Фемистоклом. Был близок с Квинтом Фабием, – разумеется, постольку, поскольку для меня была возможна близость с таким великим консулом. Гордый этими высокими знакомствами, я больше не удостаивал взглядом маленькую Клементину и старого ее отца, к тому же они скоро уехали в Нормандию, причем я даже не соблаговолил поинтересоваться, вернутся ли они.
Однако же они вернулись, сударыня, они вернулись! Небесные влияния, силы природы, таинственные власти, ниспосылающие людям дар любви, вы знаете, как я увидел снова Клементину! Они вошли в наше печальное жилище. Господин де Лесе ходил уже без парика. Лысый, с седоватыми косицами на багровых висках, он предвещал здоровую старость. Но кто с ним под руку? Это божественное, лучистое создание, озарившее своим присутствием нашу старую, поблеклую гостиную, – ведь это же не призрак, это Клементина! Говорю поистине: синие глаза ее, глаза как барвинок, мне показались чем-то сверхъестественным; и до сих пор я не могу себе представить, чтобы эти две живые драгоценности подверглись тяготам жизни и тленью смерти.
Она немного смутилась, здороваясь с моим отцом, которого не знала. У нее был розоватый цвет лица; чуть приоткрытые губы улыбались, навевая мечты о бесконечности, – вероятно потому, что ее улыбка не передавала никакой определенной мысли, а выражала радость жизни и счастье красоты. Лицо под розовою шляпкой сияло, как драгоценность в раскрытом ларчике; на ней был кашмировый шарф поверх белого муслинового платья со сборками на талии, а из-под его подола виднелся носок ботинка цвета мордоре… Не улыбайтесь, сударыня, – это моды того времени; и я не знаю, есть ли в теперешних столько простоты, свежести и благонравной прелести.
Господин де Лесе сообщил нам, что навсегда возвращается в Париж, где намерен заняться выпуском исторического атласа, и охотно бы устроился в прежней своей квартире, если она не занята. Мой отец спросил мадемуазель де Лесе, довольна ли она возвращением в Париж. Она была довольна, ибо ее улыбка стала лучезарной, а улыбалась она и окнам, открытым в зеленый, залитый светом сад; улыбалась и бронзовому Марию, сидящему среди развалин Карфагена над циферблатом наших часов в гостиной; улыбалась старым креслам, обитым желтым трипом, и бедному студенту, не смевшему поднять на нее глаза. С этого дня как я любил ее!
Но вот мы добрались до улицы Севр, и скоро будут видны ваши окна. Я очень плохой рассказчик и потерпел бы неудачу, если бы, сверх чаяния, мне вздумалось писать роман. Я долго вас подготовлял к самому рассказу, но передам его лишь в нескольких словах, ибо существует известная утонченность, особое изящество души, – их может оскорбить старик, самоугодливо распространяясь о любовных чувствах, хотя бы самых чистых. Пройдемте еще несколько шагов по этому бульвару, окруженному монастырями с их колокольнями, и пока дойдем мы с вами до той вон – маленькой, рассказ мой будет уже кончен.
Господин де Лесе, узнав, что я кончаю Архивную школу, почел меня достойным сотрудничать в его историческом атласе. Требовалось в последовательном ряде карт установить то, что старик философ называл превратностями царств, начиная с Ноя и кончая Карлом Великим. Голова господина де Лесе являлась складом всех научных заблуждений восемнадцатого века о древних временах. В исторической науке я принадлежал к школе новаторов и был в том возрасте, когда плохо умеют притворяться. Подход старика к пониманию, или, вернее, к непониманию, варварских времен, его упорное желание видеть в глубокой древности честолюбивых государей, лицемерных и жадных прелатов, добродетельных граждан, философов-поэтов и других персонажей, существовавших только в романах Мармонтеля, ставили меня в ужасное положение и первоначально вызывали с моей стороны всяческие возражения, несомненно, весьма разумные, но совершенно бесполезные, а временами и опасные; господин де Лесе был очень вспыльчив, а Клементина очень красива. В их обществе я проводил часы мучительные – и сладостные. Я любил. Я стал малодушен и скоро уступил всем его требованиям к тому историческому и политическому облику, какой наша Земля, носившая и Клементину, должна была иметь в эпоху Авраама, Менеса и Девкалиона.
По мере того как мы чертили карты, мадемуазель де Лесе раскрашивала их акварелью. Склонившись над столом, она двумя пальчиками держала кисть; тень от ресниц падала ей на щеку, окутывая полузакрытые глаза чарующею светотенью. Время от времени она поднимала голову, и тогда я видел ее чуть приоткрытый рот. В красоте ее была такая выразительность, что простое дыхание казалось у нее вздохом, а позы, самые обычные, погружали меня в глубокую задумчивость. Любуясь ею, я соглашался с господином де Лесе в том, что Юпитер деспотически царил в гористых областях Фессалии, а Орфей поступал неосторожно, вверяя духовенству преподавание философии. До сих пор не знаю, был ли я малодушным или был героем, когда вступал я в эту сделку с упрямым стариком.
Мадемуазель де Лесе, надо сказать, не уделяла мне особого внимания. Такое равнодушие мне представлялось настолько справедливым и естественным, что я даже и не думал жаловаться; я страдал от этого, но сам того не сознавая. У меня была надежда: мы дошли только до первого Ассирийского царства.
Каждый вечер господин де Лесе приходил к моему отцу пить кофе. Не знаю, что их связывало, ибо трудно встретить две натуры, до такой степени противоположные. Отец мой мало чему дивился и многое прощал. С годами он возненавидел всякие преувеличения. Своим мыслям он придавал множество оттенков и никогда не присоединялся к какому-либо мнению без всевозможных оговорок. Эти привычки осторожного ума выводили из себя старого дворянина, сухого, резкого; причем сдержанность противника нисколько не обезоруживала старика, совсем наоборот. Я чуял опасность. Этой опасностью был Бонапарт. Отец не питал к нему никакой нежности, но, послужив под его началом, не любил, когда его ругали, особенно к выгоде Бурбонов, за которыми он числил кровные обиды. Господин де Лесе, более чем когда-либо легитимист и вольтерьянец, возводил к Бонапарту начало всех зол, религиозных, политических и социальных. При таком положении вещей больше всего меня тревожил капитан Виктор. Мой грозный дядя после смерти своей сестры, умевшей сдерживать его, стал окончательно невыносим. Арфа Давида была разбита, и Саул предался своей ярости. Падение Карла X прибавило дерзости старику-бонапартисту, и он проделывал всякого рода вызывающие штуки. Наш дом, чересчур тихий для него, он посещал без прежнего усердия. Но изредка, в часы обеда, он появлялся перед нами весь в цветах, как некий мавзолей; садясь за стол, он, по обыкновению, ругался во все горло, а между кушаньями хвастался своими любовными успехами былого удальца. Закончив обед, он складывал салфетку епископскою митрой, выпивал полуграфинчик водки и торопливо уходил, как человек, испуганный мыслью провести некоторое время без выпивки, с глазу на глаз со старым философом и молодым ученым. Я чувствовал, что если в один прекрасный день он встретится с господином де Лесе, то все пропало. Этот день настал!
На сей раз капитана не было видно под цветами; он до такой степени походил на памятник во славу подвигов империи, что хотелось надеть ему на каждую руку по венку из иммортелей. Он был необычайно доволен, и первой особой, осчастливленной его хорошим настроением, оказалась кухарка, которую он обнял за талию, когда она ставила на стол жаркое.
После обеда он отодвинул поданный ему графинчик, сказав, что «прикончит» водку вместе с кофе. Я с трепетом спросил его, не угодно ли ему, чтобы кофе подали сейчас же. Дядя Виктор был очень недоверчив и совсем не глуп. Моя стремительность показалась ему дурного качества, ибо он как-то особенно глянул на меня и затем сказал:
– Терпение, племянничек! Не полковому мальчишке трубить отбой, черт побери! Вы, господин магистр, что-то очень торопитесь увидеть, есть ли у меня на сапогах шпоры.
Было ясно: капитан угадал, что мне хотелось удалить его пораньше. Зная дядю, я был уверен, что он останется. Он и остался. Малейшие обстоятельства этого вечера запечатлелись в моей памяти. Дядя был весел. Одна мысль, что он в тягость, поддерживала его прекрасное настроение. И, даю слово, превосходным солдатским стилем он рассказал известную историю о монашке, трубаче и пяти бутылках шамбертена, имевшую, вероятно, большой успех по гарнизонам, но рассказать ее вам я бы не решился, даже если бы и помнил. Когда мы перешли в гостиную, он указал на запущенную каминную решетку и со знанием дела объяснил нам употребление трепела для полировки меди. О политике ни слова. Он берег себя. Среди развалин Карфагена пробило восемь ударов. Это был час господина де Лесе. Несколько минут спустя де Лесе с дочерью вошли в гостиную. Вечер начался как и обычно. Клементина села за вышивание у лампы с абажуром, который оставлял в легкой тени ее красивую головку и сосредоточивал освещение на ее пальчиках, отчего они почти светились. Господин де Лесе, заговорив об одной комете, предсказанной астрономами, развил по этому поводу свои теории, которые при всей своей рискованности свидетельствовали об известной умственной культуре. Мой отец, имевший познания в астрономии, высказал ряд здравых мыслей, закончив своим вечным: «А впрочем, что я знаю?» Я со своей стороны привел мнение нашего соседа из обсерватории – великого Араго. Дядя Виктор утверждал, что кометы влияют на качество вин, в подтверждение чего рассказал одну веселую трактирную историю. Я был так доволен этим разговором, что с помощью недавно мной прочитанного изо всех сил старался поддержать его, пространно излагая химический состав легких созвездий, которые рассеяны в небесном пространстве на миллионах километров, но могли бы уместиться в одной бутылке. Отец, немного удивленный моим красноречием, поглядывал на меня с обычной благодушной иронией. Но нельзя же пребывать все время в небесах. Глядя на Клементину, я заговорил о комете из алмазов, которой я накануне любовался в витрине ювелира. На этот раз меня осенило неудачно.
– Племянник! – воскликнул капитан Виктор. – Твоя комета ничто в сравнении с кометой, сверкавшей в волосах императрицы Жозефины, когда императрица явилась в Страсбург раздавать армии кресты.
– Эта Жозефиночка весьма любила украшения, – сказал господин де Лесе между двумя глотками кофе. – Я не корю ее за это: невзирая на легкомыслие, в ней было кое-что хорошее. Она ведь из Ташеров и оказала Буонапарте большую честь, выйдя за него замуж. Невеста из Ташеров – это не бог весть что, но жених Буонапарте – совсем ничто.
– Что вы хотите этим сказать, господин маркиз? – спросил капитан Виктор.
– Я не маркиз, – сухо ответил де Лесе. – А хочу сказать, что Буонапарте было бы весьма под стать жениться на одной из людоедок, описанных капитаном Куком в своем «Путешествии», – голых, татуированных, с кольцом в ноздрях, с веселием пожирающих гнилое человеческое мясо.
«Я это предвидел», – подумал я, и в этой мучительной тревоге (о жалкое человеческое сердце!) первой мыслью было отметить верность моего предвидения. Должен сказать, что капитан ответил в высоком стиле. Он подбоченился, пренебрежительно окинул взглядом господина де Лесе и произнес:
– Кроме Жозефины и Марии-Луизы, господин видам, у Наполеона была еще жена. Эту подругу вы не знаете, а я видал ее вблизи, – на ней лазурная, усеянная звездами мантия и венок из лавров, а на груди сверкает почетный крест; ей имя – Слава.
Де Лесе поставил свою чашку на камин и спокойно произнес:
– Ваш Буонапарте – потаскун.
Отец мой лениво встал, тихо поднял руку и очень мягко сказал господину де Лесе:
– Кем бы ни был человек, умерший на острове Святой Елены, я десять лет работал в его правительстве, а мой шурин трижды ранен под его орлами. Умоляю вас, милостивый государь и друг мой, впредь этого не забывать.
Что оказалось невозможным для выспренней и шутовской заносчивости капитана, то совершило вежливое увещание отца, повергнув господина де Лесе в неистовую ярость.
– Я забыл, моя вина! – крикнул он, бледный, стиснув зубы и с пеною у рта. – Селедочный бочонок пахнет всегда селедкой, и когда послужишь проходимцам…
При этих словах капитан схватил его за горло. Думаю, что он бы задушил его, не будь здесь дочери и не будь меня.
Отец мой, скрестивши руки и более бледный, чем обычно, смотрел на это зрелище с несказанным выражением жалости. То, что последовало, было еще плачевнее. Но к чему останавливаться на безумстве двух стариков? В конце концов мне удалось разнять их. Господин де Лесе сделал знак дочери и вышел. Когда она пошла за ним, я бросился по лестнице ей вслед.
– Мадемуазель, – сказал я, не помня себя и сжимая ее руку, – я люблю вас! Я люблю вас!
На секунду она задержала мою руку в своей; рот ее чуть приоткрылся. Что собиралась она сказать? Но вдруг, подняв глаза на своего отца, всходившего на следующий этаж, она освободила свою руку и распрощалась, кивнув мне головой.
После этого мы с нею не видались. Ее отец переехал к Пантеону, в квартиру, нанятую для продажи исторического атласа. Там он и умер несколько месяцев спустя от апоплексического удара. Дочь вернулась к своим родным в Невер. В Невере она вышла замуж за сына богатого крестьянина, Ахилла Алье.
– Я же, сударыня, прожил свою жизнь тихо, один с самим собой. Мое существование, без больших радостей и без больших страданий, было довольно счастливо. Но с давних пор зимой, по вечерам, я не могу не чувствовать щемящей боли в сердце, когда сижу я у себя и вижу рядом другое, никем не занятое кресло. Давно умерла Клементина. За нею следом и дочь ее ушла в вечный покой. У вас я видел внучку. Пока не стану говорить, как некогда сказал библейский старец: «Господи, ныне призови к себе раба Твоего». Если старичок вроде меня и может оказаться кому-нибудь полезен, так только этой сироте, которой я намерен посвятить, при вашей помощи, мои оставшиеся силы.
Последние слова я произнес в передней у де Габри и собирался попрощаться с милой спутницей, но в это время она сказала:
– Дорогой мой, в этом я не могу помочь вам так, как бы того хотела. Жанна – сирота и несовершеннолетняя. Вы ничего не можете для нее сделать без разрешения ее опекуна.
– Ах! – воскликнул я. – Мне и в голову не приходило, что у Жанны есть опекун.
Госпожа де Габри взглянула на меня с некоторым изумлением: такой наивности у старика она не ожидала. Госпожа де Габри мне пояснила:
– Опекун Жанны Александр – господин Муш, нотариус в Леваллуа-Пере. Боюсь, что сговориться с ним вам будет нелегко, – он человек серьезный.
– Боже мой! С кем же, по-вашему, мне, в моем возрасте, сговариваться, как не с серьезными людьми?
Она улыбнулась, как мой отец, кротко и лукаво, говоря:
– С теми, кто похож на вас. А господин Муш далеко не из таких людей; он не внушает мне доверия. Вам надо будет спросить у него разрешения навещать Жанну, так как он отдал ее в частный пансион в районе Терн, где ей нехорошо живется.
Я поцеловал руку у г-жи де Габри, и мы расстались.
Со 2 по 5 мая
Опекуна Жанны, мэтра Муша, я повидал в его конторе: маленький, тощий и сухой, цвет лица пыльный, как его бумаги. Это – животное очковое, ибо без очков нельзя его себе представить. Я слышал мэтра Муша: у него трескучий голос, и говорит он, подбирая выражения; но было бы гораздо лучше, если бы он их не подбирал. Я наблюдал за мэтром Мушем: он церемонен и украдкой из-за очков приглядывает за своими служащими.
Мэтр Муш счастлив, – так он сказал мне, – он восхищен моим участием к его питомице. Но он думает, что на земле живут не для забавы. Да, так он думает. В целях справедливости скажу, что, сидя с ним, держишься того же мнения, – так мало занимателен он сам. Он боится, что, доставляя его питомице слишком много удовольствий, ей внушат ложное и пагубное представление о жизни. Вот почему он упрашивал г-жу де Габри брать эту юную девицу к себе лишь в редких случаях.
Я расстался с пыльным нотариусом и его пыльной конторой, получив разрешение узаконенного образца (все исходящее от нотариуса Муша – узаконенного образца): в первый четверг каждого месяца посещать мадемуазель Жанну Александр в пансионе Префер, по улице Демур, в районе Терн.
В первый же четверг мая я направился к мадемуазель Префер, чье заведение мне указала еще издали вывеска синими буквами. Синий цвет был первой приметой характера мадемуазель Виржини Префер, а изучить его в полном объеме я имел случай позже. Оробелая служанка взяла мою визитную карточку и, не подав слова надежды, бросила меня в холодной приемной, где я вдыхал приторный запах, свойственный столовым учебных заведений. Пол в приемной был навощен с такою беспощадною энергией, что я в унынии решил остаться у порога; но, по счастью, заметил шерстяные квадратики, разложенные на паркете перед волосяными стульями, – и мне удалось, переставляя ноги по этим ковровым островкам, добраться до угла камина, где я и сел, совсем запыхавшись.
На камине, в золоченой большой раме, стояла таблица с заголовком витиеватой готикой: Почетная доска, но в числе многих имен, написанных на ней, я не имел удовольствия встретить имя Жанны Александр. Перечитав несколько раз имена учениц, по мненью мадемуазель Префер – отличных, я забеспокоился, не слыша никаких шагов. В своих педагогических владеньях мадемуазель Префер, наверное, достигла бы абсолютной тишины небесных сфер, если бы не бесчисленные стаи воробьев, облюбовавших ее двор как место сбора, чтобы там чирикать сколько влезет. Приятно было слышать их. Но скажите мне на милость, как их увидеть сквозь матовые стекла? Приходилось ограничивать себя зрелищем приемной, украшенной по всем четырем стенам сверху донизу рисунками пансионерок этого заведения. Здесь были хижины, цветы, весталки, капители, завитки и непомерная голова сабинского царя Тация, подписанная: «Этель Мутон».
Довольно долго я дивился той энергии, с какою подчеркнула мадемуазель Мутон чащу бровей и гневные очи древнего воителя, но какой-то слабый шорох, слабее шороха опавшего листка, скользящего по ветру, меня заставил обернуться. Правда, это был не опавший лист, а… мадемуазель Префер. Сложив руки, она скользила по зеркальной поверхности паркета, как некогда святые девы Златой легенды по хрустальной глади вод. Но при других условиях мадемуазель Префер, я думаю, не вызвала бы представления о девах, любезных душе мистика. Своим лицом она напоминала мне ранет, хранившийся всю зиму на чердаке запасливой хозяйки. Накинутая на плечи пелерина с бахромой сама собой не представляла ничего особенного, но мадемуазель Префер ее носила, словно то была священная одежда или знак отличия высоких должностей.
Я объяснил цель своего визита и вручил ей разрешение.
– Вы виделись с господином Мушем, – сказала мне она. – Он в добром здравии? Это такой почтенный человек, такой…
Она не кончила и устремила взоры к потолку. Мой взор направился им вслед и натолкнулся на бумажную спиральку в виде кружев, подвешенную на месте люстры и, по моим соображеньям, предназначенную завлекать мух, а тем самым отвлекать их от золоченых рам почетной доски и зеркала.
– Встретившись с мадемуазель Александр у госпожи де Габри, – сказал я, – я имел возможность оценить прекрасный характер и живой ум этой девушки. Когда-то я был знаком с ее дедом и бабкой и склонен ту симпатию, какую внушали они мне, перенести и на нее.
Вместо ответа мадемуазель Префер, глубоко вздохнув, прижала к сердцу таинственную пелерину и снова углубилась в созерцание бумажной спирали.
Наконец она сказала:
– Если вы знали супругов Ноэль-Александр, то мне хочется думать, что вы, так же как я и господин Муш, горько сожалели о безумных спекуляциях, которые довели их до разорения, а дочь – до нищеты.
При этих словах я подумал, что быть несчастным – большой грех и что его не прощают тем, кто долго был предметом зависти. Их падение и мстит за нас и льстит нам, – а мы безжалостны.
Я заявил наставнице со всею откровенностью, что совершенно чужд финансовым делам, и спросил, довольна ли она мадемуазель Александр.
– Это ребенок без узды! – воскликнула мадемуазель Префер.
И, приняв позу, указанную высшей школой верховой езды, она изобразила символически то положение, какое создавала ей ученица, так трудно поддающаяся дрессировке; затем, вернувшись к чувствам более спокойным, продолжала:
– Эта девочка достаточно понятлива. Но не может заставить себя приобретать знания на основе нравственных принципов.
Что за странная особа эта г-жа Префер! Ходит она не поднимая ног, а говорит не двигая губами. Не задерживаясь более, чем следовало, на этих особенностях, я ответил, что, конечно, принципы – вещь отличная, и в этом отношении я полагаюсь на ее просвещенность, но в конечном счете, раз человек усвоил знание чего-либо, не все ли равно, каким путем он этого достиг.
Мадемуазель Префер тихо покачала головой. Затем, вздохнув, сказала:
– Ах, господин Бонар, люди, чуждые делу воспитания, имеют о нем весьма ложные понятия. Я верю, что говорят они с самыми добрыми намерениями, но сделали бы лучше, гораздо лучше, когда бы положились в этом на компетентных лиц.
Я не упорствовал и спросил ее, могу ли я теперь же увидеть мадемуазель Александр.
Она рассматривала пелеринку, словно читая в сплетеньях бахромы, как в книге для гаданий, нужный ей ответ, и наконец, сказала:
– Мадемуазель Александр сейчас будет репетировать других. Здесь старшие учат младших – то, что называется взаимным обучением. Но я бы очень сожалела, если бы вы обеспокоили себя напрасно. Я велю ее позвать. Разрешите только, для большего порядка, вписать ваше имя в книгу посетителей.
Она села к столу, раскрыла толстую тетрадь и, вытащив из-под пелерины письмо мэтра Муша, которое она туда засунула, начала писать, спросив:
– Bonnard, на конце d, не правда ли? Простите, что останавливаюсь на этой подробности. Но мое мнение, что у собственных имен есть своя орфография. Здесь делают диктанты на имена собственные… имена исторические, разумеется.
Вписав ловкою рукою мое имя, она спросила, не может ли к нему прибавить какое-нибудь звание, вроде – бывший коммерсант, служащий, рантье или что-либо другое. В ее списке имелась графа для званий.
– Боже мой! Если вы, мадемуазель, хотите непременно заполнить эту графу, проставьте – академик.
Перед собой я видел все ту же пелеринку мадемуазель Префер, но той мадемуазель Префер, которая была в нее одета, вдруг не стало. Это была другая личность – приветливая, ласковая, милая, сияющая счастьем. Глаза ее смеялись, смеялись и морщинки на лице (в большом количестве), смеялся рот, но лишь углом. Она заговорила; голос был под стать ее виду – он сделался медовым:
– Так вы сказали, что наша милая Жанна очень понятлива? Я это заметила сама и горжусь тем, что наши мнения сошлись. Эта девица внушает мне поистине большой интерес. Правда, она немного резва, но у нее есть то, что я зову счастливым характером. Впрочем, извините меня, что я злоупотребляю вашими драгоценными минутами.
Она позвонила, вошла служанка, больше прежнего старательная и оробелая, и затем исчезла, получив приказ уведомить мадемуазель Александр, что господин Бонар, член Академии, ждет ее в приемной.
Мадемуазель Префер едва успела мне признаться, что проникнута глубоким уважением ко всем постановлениям Академии без исключения, как вошла Жанна – запыхавшись, красная, словно пион, широко раскрыв глаза и болтая руками, очаровательная в своей наивной угловатости.
– В каком вы виде, милое дитя! – с материнской нежностью посетовала мадемуазель Префер, оправляя ей воротничок.
Действительно, вид у Жанны был чудной. Волосы, зачесанные назад, выбивались из-под сетки; худые руки, запрятанные до локтей в люстриновые рукава; красные, обмороженные кисти рук, видимо стеснявшие ее; чересчур короткое платье, не закрывавшее слишком широких чулок и стоптанных ботинок; веревочка для прыганья, завязанная вместо пояса вокруг талии, – все это делало Жанну малопредставительной девицей.
– Баловница! – вздохнула мадемуазель Префер, на этот раз приняв вид уже не матери, а старшей сестры; затем она исчезла, скользя по паркету, точно призрак.
Я обратился к Жанне:
– Сядьте, Жанна, и поговорите со мной как с другом. Вам здесь не нравится?
Она замялась, потом с покорной улыбкой ответила:
– Не очень.
Держа в руках оба конца веревочки, она молчала. Я спросил ее, неужели она, такая большая, все еще прыгает через веревочку.
– О нет! – торопливо ответила она. – Когда служанка сказала, что меня ждет какой-то господин, я в это время заставляла прыгать малышей. А веревочку я обвязала вокруг талии, чтобы не потерять. Это неприлично. Извините меня, пожалуйста. Но я так не привыкла к приему посетителей!
– Боже праведный! Почему ваша веревочка могла бы оскорбить меня? Монахини Святой Клары подпоясывались веревкой, а это были святые девы.
– Вы очень добры, что пришли меня проведать и говорите со мною так. Я забыла поблагодарить вас, когда вошла, но я уж очень была удивлена. Давно ли вы видели мадам де Габри? Будьте так добры, расскажите мне о ней.
– Госпожа де Габри здорова, – ответил я, – и находится в своем прекрасном Люзанском имении. Могу о ней сказать вам, Жанна, то же, что отвечал старый садовник, когда справлялись у него о владелице замка, его хозяйке: «Барыня на своем пути». Да, госпожа де Габри на своем пути. Вы, Жанна, знаете, насколько этот путь хорош и каким ровным шагом она идет по нему. Недавно, до отъезда ее в Люзанс, я был с ней далеко, очень далеко, и говорили мы о вас. Мы говорили о вас, дитя мое, на могиле вашей матери.
– Мне очень приятно, – сказала Жанна и заплакала.
Я не мешал девичьим слезам из уваженья к ним. Затем, пока она вытирала себе глаза, я попросил рассказать, как протекает ее жизнь в этом доме. От нее узнал я, что она была одновременно и ученицей и наставницей.
– И вам приказывают, и вы приказываете. Такое положение вещей встречается нередко в жизни. Претерпите его, дитя мое.
Но из ее слов я понял, что ни ее не учили, ни она не учила, а на ее обязанности лежало одевать детей младшего класса, умывать их, учить благоприличию, азбуке, шитью, устраивать им игры и после молитвы укладывать их спать.
– Ах, вот что мадемуазель Префер называет взаимным обученьем! – воскликнул я. – Не могу скрыть от вас, Жанна, что мадемуазель Префер мне совсем не нравится, – хотелось бы, чтобы она была получше.
– О! Она такая же, как большинство людей, – ответила Жанна. – Хороша с теми, кого любит, и плоха с теми, кого не любит. А как раз меня, я думаю, она не очень любит.
– А Муш? Что он собою представляет, Жанна?
Она поспешно ответила:
– Умоляю, не говорите со мной о нем. Молю вас.
Я уступил этой горячей, почти строгой просьбе и переменил тему разговора:
– Вы продолжаете и здесь лепить из воска? Я не забыл той феи, которая так поразила меня в Люзансе.
– У меня нет воска, – ответила она, уронив руки.
– Нет воска в пчелином государстве! – воскликнул я. – Я принесу вам воска всех цветов, прозрачного, как драгоценные камни.
– Благодарю вас, но не делайте этого. Здесь у меня нет времени лепить восковые куклы. Впрочем, для госпожи де Габри я начала маленького святого Георгия, совсем маленького, в золоченом панцире; но малыши приняли его за куклу, стали им играть и разломали на кусочки.
Она вынула из кармана передника фигурку с вывороченными членами, которые едва держались на проволочном каркасе. Это зрелище и веселило и печалило ее; веселость взяла верх, и Жанна улыбнулась, но ее улыбка сразу замерла.
В дверях приемной с любезным видом стояла мадемуазель Префер.
– Милый ребенок! – вздохнув, произнесла нежным тоном начальница пансиона. – Боюсь, что она вас утомляет. Кроме того, минуты ваши драгоценны.
Я попросил ее отбросить эту иллюзию и, встав, чтобы проститься, вынул из карманов несколько плиток шоколада и другие сласти, принесенные с собой.
– О, – воскликнула Жанна, – тут хватит на весь пансион!
Вмешалась дама в пелерине:
– Мадемуазель Александр, поблагодарите же господина Бонара за его щедрость.
Жанна довольно сурово посмотрела на нее, затем, обернувшись ко мне, сказала:
– Благодарю вас, господин Бонар, за лакомства, а в особенности за то, что вы были так добры и навестили меня.
– Жанна, – сказал я, пожимая ей обе руки, – оставайтесь хорошим ребенком и не падайте духом. До свиданья!
Уходя с пакетиками шоколада и печенья, она нечаянно стукнула ручками скакалки о спинку стула. Возмущенная мадемуазель Префер прижала под пелеринкой обе руки к сердцу, и я готовился увидеть, как отлетит ее схоластическая душа.
Когда мы остались одни, к ней вернулось ясное спокойствие, и должен сказать, не льстя себе, что она мне улыбнулась широкою улыбкой.
– Мадемуазель, – сказал я, пользуясь ее добрым настроением, – я заметил, что Жанна Александр несколько бледна. Вы лучше меня знаете, какого бережного отношения, каких забот требует тот переходный возраст, в каком она находится. Я бы вас обидел, если бы стал поручать ее вашей бдительности более настойчиво.
Эти слова, казалось, восхитили ее. Она восторженно уставилась в спираль на потолке и, молитвенно сложив руки, воскликнула:
– Как люди, стоящие высоко, умеют снисходить до самых мелочей!







