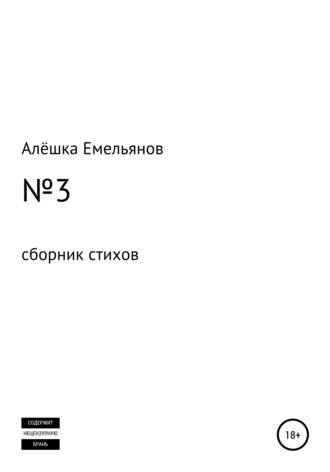
Алёшка Емельянов
№3
Russia
Многие пили муть водочных луж
иль загубили в тюремьях сок душ;
плавали в ямках и стоках канав,
где утонуло бесчисленье глав;
в петли ныряли, как в цирке зверьё,
или прослыли ленивцем, ворьём;
пулю и яда вкусив иль иглы,
больше суметь ничего не смогли;
в вечность шагали с больших этажей
или вдыхали дым, гарь гаражей,
иль, перепортив всех дней полотно,
вмиг обнимали озёрное дно;
с иным же духом, отринувши зло,
в тину печали садились средь снов,
иль угождали в семейности быт,
чтобы былые прогулки забыть;
в гроб позагнались рабочим ярмом,
не накопив на загранный паром;
вены косили во штиле, страде
в этой недобро-измятой стране.
Магазинчик грехов
Грехов накучил ворох,
в вязанки их стянул.
Из них мне каждый дорог.
Ни крохи не минул.
Набрал четыре в закром,
пять, шесть – на чердаке.
Сложил по цвету, жанрам.
Три пары – в сундуке.
На случай, впрок запасся.
Заначек сделал чуть.
В подвале банок масса,
в которых похоть, жуть.
Любой на вкус и выбор.
Есть новый, есть б/у.
В подарок, ради выгод
иль в шутку. Хоть кому…
Салон знаком и вечен.
Цена оплат – душа.
Товар не скоротечен,
дождётся не спеша
своих клиентов злачных
и чистых, чей бел пух.
Отведают всё смачно.
Мошной не буду сух.
Четыре дороги
Берут уже Бога за руки
и мнут тихо траву в раю
незнавшие, знавшие муку
в наземно-бытийном краю.
Гуляют они, где – не знаю,
но Господа видят в лицо
поклонники святости, мая.
Милуясь с извечным Отцом,
витают всемысленно, тельно,
настроив третьокую связь.
А тут темь умов и безделье,
мятежье, средь толпища грязь.
Достичь не сумею я Бога.
Стихают и слёзы, и вой.
Отправлен в четыре дороги.
Лежу четвертован, больной.
Вселившийся
Среди ролей и ипостасей
живя всеразным, но собой,
в покое иль огне опасий,
идёт в гамак или забой
Великий ум. Слывёт чудесным
века и сотни тысяч лет,
незримым, мощным и безвесным,
и старцем, знающим ответ
на всё, любую шкурь примерив,
испив, отъев добра и зла,
несчастье, страсти и примеры
любви, бессонниц, ремесла.
И вот моя судьба попала
ему… Поживши чуть одной,
Бог вяжет петелье овала,
устав, наверное, быть мной.
Алкари-богатыри
Мой ринг от лавки и до двери.
А рефери – патруль, семей
глаза, бессонные соседи.
Судья сего – зелёный змей.
И сыплет винный дух удары.
Я – витязь русского бытья,
потомок бьющих род татара,
любое иго. Средь белья
и слёзных старцев я порхаю,
как завещал боец Али;
и меж маханий вслух ругаю
все поколенья и слои
врага, собрата по России.
Недолог бой. Предатель – хмель,
что, разъяривший мои силы,
коварно сводит их на мель.
Всему виной, конечно, Запад,
отнявший труд и пуд зарплат,
в подъезде ссущий, наглой лапой
моей души укравший клад.
Вот, не жалея крови, жизни,
чтоб мир боялся сил моих,
я бью за честь и стать Отчизны
сограждан пьянистых своих!
Девичник
Мотай, вращай шарами, эй,
жонглируй, мой Тарзан!
Осыплю вмиг дарами дней,
повысив суммы, сан.
И пей, дыши кальянами,
о чём-то лепечи.
Зажги, раздуй буранами
огонь в сухой печи!
И смейся юно, радужно,
тяни арканом чувств.
Вина, абсента градусом
заправь сосуды буйств.
И лоском тёмной кожицы
касайся, как во сне.
И лишь в приватной ложе ты
раскрой все тайны мне
изгибом, жаром талии.
Минута, будто час.
О, гений гениталии,
веди, ласкай сейчас
везде, фривольно властвуя!
Манящим, всяким будь!
По мне развратствуй, странствуя!
С утра ж про всё забудь!
История любви
Давай прочтём историю Ромео?
А, может, вместе сочиним свою?
Но без тоски и юных душ родео,
и без семей, зовущих нас к суду.
Красивая строка! Другая интересней!
Но мы прекраснее напишем, проживём,
заменим кислое, что серое и пресно,
на мёд и сдобу. Яркие сошьём
картины дней, одежды, покрывала,
построим замок выше, краше всех.
И будем греть, да чтоб не остывали,
сердца свои, смотря на солнце, снег.
Скажи, хорош сюжет, мечтания, идеи?
Коль нет, дополни. Веряще приму.
И Бог поможет в явь ввести сии затеи.
Начнём с утра. Прильни, я обниму…
Поэзия
Знаешь, правдива, печатна,
вечна поэзия мига, -
будь то вулканна, печальна?
Зеркало мыслей и мира.
Искренна, также искряща
суть её, что бессудебна.
Видится мне, настояща,
как и умами потребна.
Честь её чистая, частна,
честная, вестная в каждом
слове, что гордо и властно,
и сердцевина в всём важном.
Знаешь, сильна и всеочна,
малое истины племя?
Метко её троеточье.
В каждой главе её семя,
вырастет что иль увянет.
Буква – ядро или бремя,
что коротит жизнь иль тянет.
Каждой строке своё время.
Muse
Сине-сатиновый взор удивляет
средь карнавала, мозаик очей.
Бархатом, юностью тела влияет
на настроения, пыл. А лучей
ровные линии сеет помада.
Веер накидок почти невесом.
Полная магией лисьей и ладом.
Волосы пахнущи липой с овсом.
Скромно-игрива и жарко-умела.
Броска браслетов резных красота.
Слышали б вы, как она ему пела!
Всегероиня стихов и холста.
Вновь наблюдаю смешливо и тонко
с облачных высей уже третий год,
как каблуками звенит в пути звонко;
он ожидает, как рыбоньку, кот.
Мило нахолившись, смотрит участно,
давние складки размяв пиджака.
Как и впервые, поклонно и страстно
ищет свой выигрыш азарт игрока.
И на былых она чем-то походит, -
в этом и глупость, и шарм, и секрет.
И на свидание снова приходит
шлюха, которую любит поэт…
Классный
Люблю его! Расчётливый, упрямый.
Он пишет обо мне поэзии листы,
и лечит все мои печали, боли, раны,
и новых не творит. Наводит он мосты
богатства и знакомств, иного состоянья.
Знаток искусств, любого ремесла,
нежнейший кавалер, и с мышечным стояньем.
Везде он пионер. С задатками посла.
Почти боец плацдармов, октагонов.
Всевидец, праведный. Иной, и тем манящ!
Блюститель чести, правил и законов.
Красив и выглажен, сияющ и пьянящ.
Живой сосуд из ласки, рифм и власти.
И слава вся завидна, не дурна.
И даже тень изящная прекрасна!
И я, по мере сил, умна, нежна, верна.
Важны ему: покой, уют и женскость.
А грива царская приятна и пышна.
Такой, как он, – мечта награда, редкость.
Но я, обратная, зачем ему нужна?
Спасающийся
Щекочет спину дробь
и ветви хлещут морду.
Хоть троп я взял сто проб,
но псов так хватки орды.
Уже не гордый волк,
а пёс, от псов бегущий,
которых будто полк.
И пуль полёт стригущий
рядит листву, как сеть,
достать трофей желая.
Мне б выводок успеть
спасти, следы петляя,
ведя стрелков от нор.
Раж конно-пьяной шайки.
И меж опушек, гор
несусь, ищу утайки.
Усталость, вдохов муть.
Смирит погоню вечер.
И выстрелами чуть
ослаблен и помечен…
Олень
Сезон охот пришёл.
Рога бы скинуть раньше,
оставить плод и жён,
бежать чтоб легче, дальше.
Но нет! И лес – мой дом.
Враги пристали хватко.
Не нужен лис иль сом,
а я желанен сладко.
Сбивая столб дерев-
собратьев и их славу,
цветы, мох, озверев,
топчу сестричек-травы,
бегу, размяв в труху
и камни, и валежник.
Я где? В каком кругу?
Я весь уже не прежний.
Но стихли бой, шаги.
Дышу вполне резонно -
стрелки ещё плохи.
Лишь первый день сезона.
Багровый мёд
Багровый мёд со вкусом цинка
из сот овражного куста
течёт, из устья половинок,
порой питает мне уста.
Преспорный акт, сырое действо
наводят страсть и страх, и хмель.
Твоя услада и судейство
в забавном шоке в токе дел.
Ведь срок пришёл. Хозяин пасек
готов добыть, изведать сорт
и урожай, что ало красит
ладони, губы в свой узор.
Ну что же ты опять вертлива,
иль непривычна, иль скромна?
Пикантна так, тепла подлива
к любовным блюдам, и равна
изыскам, что вкушал не каждый,
не смевший то узреть, принять.
Лишь сомелье влюблённый, в жажде
готов испить опять, опять…
Парк скульптур
Тающий сумрак теплее могилы.
Каждая птаха на прежних местах,
с обликом мощным и гордым, нехилым.
Древние птицы без дрожи в костях.
Каменной грудью и взором открыты
жару, невзгодам. Обид не таят.
Перья ветрами совсем не разрыты.
Снегом одетые в парке стоят.
Где-то вдали уже век не охочий
гривистый лев, чья животная стать
видит цветы у подножья, их хочет,
пастью голодной не может достать.
В свисте морозном и тихом молчаньи
старо скворечники смотрят вперёд,
выглянув из-за стволов на прощанье,
вновь провожают гуляющих ход.
И наблюдая красот перемены,
в зиму метели, а летом – галчат,
в муках терзаясь без записи темы,
в бронзе поэты промёрзло молчат.
Внезапность
Хотел бы увидеть Вас раньше,
до праздника свадьбы, колец!
Я б духом ещё не ослабшим
надел бы на Вас тот венец,
совсем не на нынешню деву,
какой лишь названье "жена",
какая без мыслей и плевы,
без цели, умений. Она
прекрасна и знатна лишь видом
и платьями, тушью, словцом,
но с нею не хочется быта,
быть мужем, а детям – отцом.
Бесцельно-сожительна пара.
На радость лишь семьям родных.
Без счастья, тепла и запала.
Для неодиночеств двоих.
Теперь птице – клетка бетона,
иль рыбе – аквариум, мель.
Явились спасти ль из затона?
Ах, где же Вы были досель?!
Печалящие о великого
Многие люди печалят меня:
с Богом и бесом водящие дружбу,
кто пьёт, чудачит, иное виня,
и получает неслуженно службу;
водит любови за стенкой домов,
новой интригой ломая, калеча
вечну доверчивость душ и умов;
стадом идущие в мнимое вече;
кто обучает дам в крик, кулаком;
кто шкуру, душу мужичьи терзают
ревность-изменами, иль тумаком
высшие рангом; кто меры не знает.
Ох, нетерпимы и те, кто, увы,
близких могильников не навещает,
кто клоунадит с экранов в умы,
рабство труда насаждает, вещая;
девы забывшие скромность и стать,
давшие рубль, что в страхе нищают,
и не забывшие с бедного взять…
Может, кого-то и я злю, печалю.
Красные дни
Месяц прошёл, выливайся
чашей двуручной, смелей!
Вызволить розовь пытайся,
ту, что уж стала спелей.
Дата потока желанна,
чтоб был он вольно излит.
Крась воду, краешки ванны.
Нёбо в волненьи кислит.
Лаской согрею и речью.
В боли не плачь, не тужи.
К ране, начавшейся течи
тесно бинты приложи.
Рядом тихонько побуду.
Как минет буйство крови,
голодно, нежно приступим
к новым этапам любви.
Вселенский закон
Удобный пруд стеклянный.
Зверь топчет зоосад.
Бетонный рай желанный
для расы всей людят,
что ищет сон, уютность,
бесслёзность, пир и смех.
Отдав за деньги юность,
душой оплатит мех.
Уходит в высь иль мели.
Хранит себя дикарь
в окопе тёплой кельи.
Могила тоже ларь.
Весь мир, как соты, гроты,
склады, участок, цех.
Невольный дом природы
для каждого и всех.
Memory
Память – скопление хлама,
выжженный выплеск, салют,
прошлых затей панорама.
Вкусом с дешёвейший брют
нынче, что было изыском
с ранних, цветастых годов.
Будто побитую крыску,
тихо мусолю котом,
явно седым и беззубым,
чуть озираясь назад.
Правила жизни так грубо
рушат ухоженный сад
думок и дел, заселяя
тлёю сомнений, жуком,
что селит тьму, облысяя
мыслей цветенье кругом.
Сводит в единое краски
красный закат, позже ночь.
Сохнет надежды вся смазка.
Вянет ума свет и мощь.
Карточки фото, веселье
ил будоражат, печаль.
Смерть входит в серое тело,
в дух, что измучен и чал…
Великая глубинка
Дырявая ватника ветошь.
По крышам солома и толь.
Гляди на селянскую немощь,
вдыхая поганую смоль
сигарки, дымящей порханьем
из властихвалящих газет.
Морозит холодным дыханьем
за садом древесный клозет.
Дороги разрытые шиной,
где кашица, топь, непролазь.
Поля и макушки с плешиной.
Лишь брага – от быта, дум мазь.
С управой глухой поединок.
Натёртый язык, сбитый плуг.
Подковы на паре гвоздинок
в копытах, как сбитый каблук.
Заезжены шеи. Баб роты
без женскости. Беден массив.
Прелестен лишь облик природы,
который лишь летом красив.
Стада, как худобные рейки.
И гниль, недовес ячменя.
Навоз пропитал телогрейки.
И брань даже тут от шмеля.
А взоры уставше-бесправны.
Сор, сытость даёт огород.
Мне город по телу и нраву,
хоть в нём погряз…нее народ.
Познавшие Бога
Познавший Бога знает,
что нет других богов;
что паству не бросает,
что в злате, тьме потов,
дела и боль зачтутся,
порядок помнит дуг,
что радугой зовутся;
что нет у Бога слуг,
а есть родные дети
из глины райских кущ,
из духа, рёбер клети.
Былой Эдем грядущ.
Впустивший Бога снова
вдвойне, наверно, чист.
Он, внявший тяге, зову,
открыл к спасенью лист
и к чуду, правде, чарам,
жилец снегов, степи.
Единки, тройки, пары
верян – звено цепи.
Да будет сумма света
свечей, глаз, звёзд. Парад!
Что верным дал ответы,
что я им нужен – рад!
Почтивозлюбленная
Троганья плавные, божьи
жадно предчую и жду.
Раструбы сняты сапожьи
ею, а платье, узду
стяжек грудных и иное
с дрожью чуть позже сниму.
Вид распаляет живое.
Час наслажденью и сну
выдан хозяином счастья,
магом с корыстью очей.
Выбрана лучшею мастью,
будто бы в дар из вещей,
что передарен бывал уж,
может, не раз уж на дню.
Но я вселепетен, тающ,
может, немножко люблю.
Славная, речи не грубы.
Лёгки витанья, как моль.
Жаль, это платные губы,
ласки, улыбки и голь.
Внереальность
Видал рост туч и травок,
оттенки вод, ветров,
все поры глаз и ранок,
и клетки крови, дров;
знавал тепла окрасы
и космос разных грёз,
ветвистость душ, гримасы,
сплетенья молний, поз;
не знал межи, запретов,
я слышал пыль, зерно;
был мир без зла и бреда,
подобьем счастья, снов;
всего касался взглядом,
имея чувств заряд;
народов ум, наряды,
кажись, я вечно знал;
экстазы, транс покоя,
заход за сто границ,
феерью чуял боя,
когда впускал я шприц.
Регата
Обжат в сыром туннеле.
Толпой теснимся душ.
Войдём во влагу белью
иль выпадем на сушь?
Дрожат теснее стенки.
И красный шум быстрей.
Толчками переменно.
Хозяин ждёт гостей.
Ах, запах там, свет розов!
Как помню курс и пыл,
соседей, шторм и грозы.
Как будто прежде жил.
И голос мне знакомый
кричит и шепчет вновь.
Накат и жар искомы
то в одинокость, вдвойвь.
Без ветра. Ток попутный.
Преград нет поперёк.
Волною общей мутной
плывём, плывём вперёд!
Кто выгнал нас из дома
и в рейс желаньем вверг?
А лодок наших тонны
несутся вниз и вверх.
Что там, в дали взаимной?
Наш путь быстёр, далёк.
Что там: никто, зверинье,
жена иль паренёк?
Газеты
В каждом и "Правда", и "Берег",
с записью ссыльных статей,
даже с колонкой про веру,
с ликами средь новостей.
Вести про прошлую юность.
Зов заголовков сверх строк
про беспределы и глупость,
мать и нещаднейший рок.
Шрифтом порой неумелым
грозно вещают с полос.
Бюстом и ростом ли целым
виден то бес, то Христос.
Выпуски в срок иль до срока
взглядам являются в дни.
Кадры имён, тел, пороков
всем в обозренье даны.
Тексты молитвы, как сметы,
список заслуг, что негож.
Люди – живые газеты
с синими штампами кож.
Гибельность
Рыжим шипением листья
кроют поверхность травы,
пеною с примесью. Выстрел
где-то в кувшин головы,
может, а, может, и в суку,
что покусала ребят…
Осень, вносящая звуки,
хладом щипает круг пят.
Шумность и толп торопливость,
ветхие шторы вдоль рам.
Горлость хрипая, сопливость,
пьяность и дел тарарам.
Пришлое время сезона
вновь баламутит умы
шлюх и поэтов резонно,
дворников, что чуть глумны.
Старое поднято вихрем,
ливнем прибьётся к земле.
Бедность по-прежнему дрыхнет,
вновь обвалявшись во сне.
Гибель склонившимся будет
лёгкой из лёгких наград.
Месяцы лучших погубят,
близя заснежья расклад,
что поукроет и стойких,
бурей сторукой свалив
древы, сараи, пик стройки…
Я же пока ещё жив…
36,6 + 36,7
Вдвоём теплей и мятней,
мёд солнечней, вкусней,
планеты, Бог понятней,
рассвет, фонарь ясней,
родней стыковки кожей,
из ран боль не торчит,
расхожести похожи,
и спирт не так горчит,
уютней край кровати
и пледа гладь, шатёр,
шитьё красивей платьев,
смешней игра и вздор,
нежняшней час, мгновенье,
прекрасней божий гад,
приятней вдох, веленье
и блюд любой расклад,
желтее злата проба,
един душ водоём,
печалей нет и злобы,
когда вдвоём, вдвоём!
Просвириной Маше
Бронежилет
Обвей ремнями плечи,
прильни родней к груди.
Страшны в кровавой сече,
средь пуль твои труды.
И впейся, будто в жилы.
Приму и холод твой,
чтоб трубы, ливер живы
остались, приняв бой.
Прошу, тесней пришейся,
чтоб вдох сберечь от жал,
к спине младой приклейся.
Страх вязко поры сжал.
Под свист осколков-гроздьев
твержу молитвой спич.
Скорей! Иль будет поздним
объятий тесных клинч…
Гедонизм
Земля оббл*денела,
пригрела явных сук.
Продажи лика, тела
под чисто-сладкий звук.
Пирует бал вновь ало.
За новой лестью шот.
Сеть ног китов обняла.
Икона Франклин лжёт
и дарит чудо вспышкой,
как змий слога и смех,
явившийся голышкой,
расправив низ и верх
гостей, влюблённых в похоть.
Творят цветной Содом
служанки, куш и крохи
ища, казённый корм.
Лучи, дымы, раж дела,
разгул и шабаш ведь.
Земля оббл*денела
и будет бл*денеть…
Синтетика
Версии счастий, несчастий -
мы, – манекены меж схем,
сборники лейблов, пристрастий,
блюд накопители, цен.
Дряблые выделки шкуры,
дёшев блескучий их вид.
Лаков подделанный гуру,
хоть и в вещах деловит.
Вычурный каждый проулок,
форма и стелька, покрой.
Звук обездаренно гулок,
хоть и напевов, нот рой.
Ложные копии вздуты
средь бутафорий и лжи.
Сути искусственной мути
вмиг приниматься должны
ясно, почти непреложной
истиной, будто б фетиш,
будто бы заповедь божья
прямо с рекламных афиш.
Замки и моды фанерны,
коим взмолились гурьбой.
Путь до беспутья неверный,
принятый овчей толпой,
знающей па, а не танец.
Гладкий до колкости свет.
Блеск бижутерии, глянец
всех ослепил. Я – аскет.
Киса
Мечутся икры, Отар и тюлень
ищут в горах и в воде свои цели.
Брачные игры, интимие, лень.
Каждому надо протиснуться в щели,
верно пристроить и семя, и ген.
Тополь, каштаны, влюблённые в землю,
сеют. И тем объяснение смен
рас и эпох, и лесов. Сему внемлю.
Жизни закон до простейшего прост.
Вечной природы умно положенье.
Киса, отдвинь распушистейший хвост,
выполним вместе инстинкт размноженья!
No logic
Верные годы ничто не дают.
Ликом тоскующим счастья и чуда,
чую, не вымолишь там или тут.
Знаю, счастливее вор и паскуда,
чем омудрённые книгой какой,
музыкой, музой, казной одарённый.
В бурном потоке жену и покой,
жаль, не увидеть, увы, упоённо.
И оттого стоит жить, как живёшь.
Что предназначено, то и имеешь.
Стройность и лад, миролюбие всё ж
не гарантируют рая средь шеищ.
Теплю надежды любовь распылить,
кою роднейшая встречно поймает.
Нынче ж, пока её нет, буду лить
бель свою в ту, кто её принимает.
Л.Е.
Перед октябрём
Горячих стёкол, брызг
игра мигает разно.
Златой, алмазный прииск
огней то мутный, ясный.
Тем ночь не так темна.
Жираф молчит фонарный.
Дорога так ямна́,
кучна́. Тоска угарна.
Растрёпы, плеши крыш
и грязь на каждых лапах.
Рыжеет блик афиш.
Сырой осенний запах
влезает в летний нюх.
И щит зонта – спасенье.
Бесшумье – рай на слух,
а темь – отрада зренью:
без рези сует, глаз,
мозаик дел, идущих,
одежд. Забора лаз
забит от лишних, ждущих.
Как прищур, лунный серп.
Взгорают, гаснут окна.
Чрез зёрнышко-отсек
зонта я начал мокнуть…
«Чёрное зеркало», 1 сез., 3 сер.
С другим? Вино и свечи?
Вливанья чувств, слюны?
– Всё это нерв калечит,
последний что в груди.
И впрыски влаг до недр?
Вскипает тихий мозг.
Внутри раздал им щедро
по паре сотен розг.
Изменный нрав бессмертен.
Доказан факт тому.
Ведь лучше знать, что черти
соседствуют в дому,
чем думать, что то ангел,
что в фартуке, белье.
Не только мне тот факел
светил, темнясь в вранье.
До правды самой грязной
дорылся зря… не зря…
Хоть память стала язвой,
так лучше жить, чем вря.
Машистая
Кулон из злата, букв,
и свежим сеном волос,
и рот с окрасом клюкв,
шутливо-спелый голос,
набор объятий, тем,
широких блюд подача,
прия-приятность дерм,
уютность, ритм, удача,
сплетенье нежных жил,
милейший стан и облик,
и женско-детский пыл,
халатно-белый кролик,
волшебность фей в толпе,
прощенья, шик, мечтанья…
И это всё в тебе
в прекрасном сочетаньи!
Просвириной Маше
Present continuous
Мирок прогнил до самых жил,
насытил ленью, лярдом,
умы и честь вмиг сокрушил,
извёл добро, вкус правды,
вспоил всех красками с лихвой,
лишив природных вкусов;
мужичий дух сменил на гной,
всплодил рабов и трусов,
и шлюх поставил у плиты,
в алтарь загнал безверцев.
А дети-куклы – лжи плоды -
с улыбкой и без сердца.
Забыты все творцы страниц,
герои лет, дней смыслы.
Одни принцессы, и нет жниц.
Сор пикселей в всех, числа.
И мы все то, что мы едим.
Сердца врагов жрут к силе.
Но нынчий мир, что не един,
говно жуёт в злой были…
Roads of life
Каменный век подытожен,
бронзовый, медный, златой.
С глупыми бытность возможна,
кои с айфонной плитой.
С ними совсем несподручно.
В стенах ищу лаз и щель.
Путь их мне чуждый, разлучный.
Тропка – рифмичная гжель,
мною всё рыщется с кровью,
тёртостью плеч и ушей,
срезанным волосом, бровью,
смятостью, дранью вещей,
с битостью стоп оголённых
об острия, камни, грязь,
с кожей меж ран опалённой,
чтоб обрести толк и (с)вязь.
Топаю дельно, то плохо
в нитках, босой и в венце.
Суть всю узнаю дороги,
пусть даже в самом конце…
Последствия
Растерзан скот. Угрюмо, глухо.
Исчезли молнии и гром.
Грязны́ лесные звери пухом,
а птицы – крыльями. Погром.
Заплаты сорваны так яро
с боков сараев. Бойни вид.
Как будто рейдом шли татары.
Сеченье ран вовсю кровит.
Все избы свалены, как кучи.
Стога размётаны и бор.
Свисают тряпочные тучи.
И рёбра все отдал забор.
Сырая даль. И рвань округи.
Измяты, сбиты семь дворов.
Глядит народ, кидая ругань.
Закидан всем и пруд, и ров.
Луга истрёпаны, как битвой.
И стёкла вышиблись из рам.
Деревья кромсаны, как бритвой.
Целы́ иконы лишь и храм…
Зародыш
К груди прижалась горсть.
Страшит этап начальный.
Возникла в сердце кость, -
растёт скелет печальный,
составлен из обид.
Зерно тоски в нём бьётся.
Злом, болями налит.
Темно ему живётся.
Он ширит выше рост,
питаясь больше, больше
различьем хмурых доз,
разлукой. Стенки тоньше.
Не справиться с бедой.
Изъять ножом, абортом
нельзя. Вкололся, ой,
в венозье и аорту.
Он – грусти жадный плод.
Сосёт пиявкой, впившись,
и пухнет каждый год.
Убьёт меня, родившись.
Windows of the city
Млечные, винные брызги,
бранные, вдохи вдоль лож,
битые лица до дрызга,
щели расширенных кож,
пасти раскрыты, кастрюли,
вовсе ль закрыты, пусты;
петли, яд, хладное дуло,
и без зашторья кресты,
нотно дрожащие ритмы,
книжно молчащая тишь,
люди раздельны и слитны,
в клетке пленяемый чиж,
злые, довольные маски
драмою, смехом полны,
пишут, не веруя в сказку,
так одиноки, вольны,
грустью заросшие, пылью,
жизни и смерть под сукном,
плен анемии, боль жильна
прямо за каждым окном.
Остаревание
Обняла посох горсть,
опёрлась грузно туша,
горбато, будто мост
от суши и до суши.
Обвила старость ум,
впиталась едко в клетки,
одев в дрянной костюм -
в унынье, хлам, жилетку.
А торс, походки стать
связала лентой лени.
Толкая вновь в кровать,
мой дом лишает тени.
Обжив мой угол, кров,
брезентом шторок кроет,
прибавив дрёму, снов
полудням. Память моет,
и хочет вымыть всё,
что с прошлым единяет.
Мой цвет от зорь до зорь
сгасает и линяет.
Пришла она, идёт,
и не отпустит, знаю,
согнёт, на нет сведёт.
Я никну, вяну, таю…
Проводница
Проводишь до гроба, родная?
Умеешь ты смерть торопить,
и звать, призывать, подгоняя,
и даже для поспе́ху бить
в бока её крепкие с злостью,
и злить, и растравливать слуг.
Подталкивай мясо и кости,
вселяя смиренье, испуг.
Уверен, до места спровадишь,
до ямы, до насыпи сверх,
и холмик смиренно погладишь,
и зелени вырастишь мех.
Безмерно усердна, способна,
и мастерски гибель несёшь,
и пластик даруешь надгробный,
и вороном чёрным поёшь,
и ловишь летящие души
корявейшим клювом, сырым,
охотником сытым и лучшим
глотаешь их меленький дым.
А после над всем хороводишь
поветрием хладным, сухим.
Когда в безызвестье проводишь,
возьмёшься за новых других…
Ма-Шик
С оттенком мёда, облепихи,
со вкусом их её уста.
И взор играющий, то тихий.
Тепла, до радостей проста.
На ощупь складная, объятна,
как точный пазл средь частей
чужих и ярких, непонятных.
Покоя бухта средь страстей,
где кораблю удобно, сыто,
где нет иных барж, якорей.
Волшебной аурой покрыта
средь пыльных зданий и аллей.
Всежильно, думно тяготенье,
касаньям жаждимый магнит -
она. Цветной владеет тенью.
Ей каждый мир и взор открыт.
И мастера пред ней приклонны.
Шарм совокупного добра.
В ней ласк невидимые тонны!
Она со мной! Ура! Ура! Ура! Ура!
Просвириной Маше
Изгнанец
Шары терракотовых ламп
богатство убранств именуют.
Там стили экспрессии, вамп
сюжеты всех стен знаменуют.
Резные столешницы в ряд.
И каждый узор тут полачен.
Златистый с изнанки наряд.
Начёсаны шерсти собачьи
и кудри, стога париков
хозяйских, до самых каёмок
и зрелых, младых, стариков
в быту и на лоне приёмов.
Лишь я залохмачен и сер,
никчёмный, голодный, облезлый.
В том замке я был первый сэр.
Средь лет я царил, до болезни…
Ах, нотки открывшихся вин
и запах роскошных красавиц
доносятся меж половин
забора, где я, как плюгавец,
какому назад нет пути,
какому лишь память осталась:
балы, кружева, мод суды, -
бедняге забытому малость…
Кавказский пленник
Влетевшая пуля остудит,
центруя мишень, юный пах.
В расстрельную кучу прибудет
измученный пленом в горах.
К опоре на миг пригвоздила,
и резко отправила в спуск.
И машут кистенем-кадилом.
Я в своре неблизких – Иисус.
И смерть одинаково срежет -
смиренный, несущийся ль в бег.
Присягу, медалистый скрежет
навек аннулирует снег.
Животно в угаре семейство.
Молящих и плачущих бал.
Пусть будет последним злодейство!
Пусть буду последним, кто пал!
Толерантность
Он гейист, томлённый,
манерен, смешон.
Но мир испошлённый
не ведает шок.
Он примет синь волка,
тип белых ворон,
пузатых, ермолку,
и третий пол, тон;
слог против не скажет
глупцу испокон,
любой грех отмажет.
В душе силикон
и язвы всей злобы
уж мир не дивят,
и розовость пробы
девчонок, ребят,
пришитые стержни
и ввёрнутость вульв,
ленивые лежни,
бездарности букв,
умы маломозглых,
и скудость людей,
и козни, скабрёзность,
и племя бл*дей,
угарных, и маркость,
и нервенность, лёд…
Мир примет всю пакость,
какая придёт…
Космичность
Толчок, и целый мир шатнулся,
и схлопнул точку до нуля.
До тьмы свечение свернулось,
ничто для бытности суля.
Листва – до почки, до песчинки -
Земля, до точечности – шар,
и насекомье – до личинки,
до искры – пламя и пожар
свелись, до капли – океаны.
Хребет всегористый скручён
до нитки, стал невеликанным.
И в выдох ветер превращён.
Любовь до выплеска из тела
сошла, вселенство не виня.
В мгновеньи шокового дела
весь Бог уменьшился в меня.
И полон вакуум сих бусин.
Бином. Первичности бульон.
Сансары цепь всегда искусна.
Начало новых жизней, войн.
От судьбы не уйти
Званные всячески в гости,
к поезду, в уличный ход,
к встрече на берег и мостик,
в здания, к выставкам мод,
в резвые игры и хобби,
к стройным и вялым кустам,
к ужину, блюдам, на пробы,
к новым и старым местам
дома остались, тревожась
капель дождливых, жары,
смирно, развально, то ёжась,
воздух берут, как дары.
Буря разбросанных красок,
двери распахнуты… Спят
в ужасе, бледности масок,
кровь подстрелив под себя.
Столкновение
Шоссе собой вчера окрасив,
глядишь с асфальта оком ввысь,
дорогу утром тем опася,
глухих просёлков лёдный мыс.
И стынут мышцы, чуб отдельно.
Фантомна боль. Перчинки-снег.
И бель слепит. Вокруг метельно.
И сны не греет с неба мех.
Помятость, стёкол паутина,
потёкший в мёрзость антифриз.
И топит случай пышность тины.
Иной в кювете смотрит вниз,
кто мчал быстрее и упрямей
чертей. А ты входил в туман.
Тут ночь не зналась с фонарями
века. Не спас вас талисман.
Поникли крылья, видя траур,
и перестали вдруг расти.
Тепло теряю ваших аур.
Вас опоздал двоих спасти…
Каштанность
Темень коричневых ядер,
зелень подбитых ежей,
жёлтость нападанных пятен
с веток – сырых этажей.
И шоколадиста гибель.
Стелен асфальта батут.
Скинутся многие, ибо
мучает ветерный зуд.
Град вертикальнейшей пушки
в крышу земную стучит.
Семя орехов, как души
грешников, павши, молчит.
Ягоды ль с крон великана?
Очи с драконьих голов?
РОдня ли камня в тумане?
Брызги вулкана с домов?
Сыплется колкий бубенчик
с дерева древних родов.
Спело-кофеистый жемчуг
сеет всю гладь городов.
Вирус
Вирус звериного пыла.
Ярость заразит с боков.
Пастью из пенного мыла
резать всерванно готов.
Всем озираюсь оскально,
зову предельности вняв.
Шерсти торчащие жала
ёжат, терпения сняв.
Кучит, ерошит гладь злоба,
мирность и зубы крошит.
Пламенно-кисла утроба
слюнно и ядно кишит.
Боли сей нет карантина.
Тело не сдержит поток!
Пуля моя иль вражины
вылечит, выдав исход.
Ныряльщик
Тянет свинцово грузило.
Виден мутнеющий сок.
Трачу пузырья и силы.
Буем надежд поплавок,
коему всё же "спасибо",
что не ползу я по дну;
что на виду – "неспасибо".
Холодно тут поутру.
Плюнут усато губами.
Вдетый, натянутый в рост.
Смирно и пьяно купаем.
Бледно шевелится хвост.
Тихо. Виднеются травы.
Так, и зачем сюда влез?
Только заметил я плавны
блики монисты и блеск…
Лёфка и Мафка
Дорога к объятиям, пледу
меж своры чуть спящих собак,
сквозь нити, канатища бреда,
и толпы, пустеющий бак,
потницы и выдохи внешне,
заспинно оставив боль, сны,
вела и прогулочно, спешно
до осени с поздней весны.
Тропинки под кронами клёнов,
по сотам брусчаток, мели́
за звуком дыханий и стонов,
молчаний, улыбок вели.
И рейсы от двери до двери
несли наилучшего смесь,
с предлюбьем, надеждою, верой
до юга из северных мест.
Просвириной Маше
Шалашик
Готовое счастье на завтрак:
мясистый до слюнок мосол,
салатные блюда из самок
павлиньих. Свисают на пол
колбасные цепи. И струи
шампанских. Крема на коржах.
Приправами – вкус поцелуев.
Мозаики салатов в ковшах.
Тут соки диковинных ягод
в графинах, икринки надежд.
Тарелок нет с горечью тягот,
обидой, соседей-невежд.
Цветное, съестное застолье,
устроено что средь чумы
в уютном шалашике, вольном,
где гости, хозяева – мы.
За стенками вой голодавших,
навесы и замки средь дня.
Пируем, друг друга дождавшись,
застольная пара моя!
Конечье
От осени этой так больно.
А сердце – телесная моль.
Средь сырости плещется сольно
холодный душевный рассол.
Ладони чужие согреты
остатком тепла из груди.
Сильнее горчат сигареты.
На них все уходят труды.
Все листья прилипли теснее
к дорогам, асфальту, своим,
от этого им и теплее.
А я всё брожу, ища сны,
чтоб на ночь хотя бы забыться;
чтоб грусти, невзгоды не зрить.
Наверное, стоит зарыться
в сугробы, паласы листвы.
От ветра и мороси, серых
пейзажей колючей лицу,
тюремнее мыслям и вере.
Ноябрь ум сводит к концу.
Целуемый, обнятый самый
Целуемый, обнятый самый
под самой из радостных дев,
над феей с улыбчатым шрамом,
кто любит мир, запахи древ.
Держимый стыковкой ладоней,
ныряемый в серую синь
поглядов и гамму гармоний,
что равны испитиям вин.
Зовимый в местечки и встречи,
с луча позитивом зажжён.
Дарящий, ласкающий речью,
телесьем и рифмой – влюблён.
Беседен в лицо, мониторах,
приветом с утра не забыт.
Всегордый и стойкий, напорный
любовным нокдауном сбит.
Просвириной Маше
Исчезнувшая
Ведьма любовного мира
(в верном значении слов!)
с грудью, как яблок наливы,
память мне радует вновь.
Вли́пкость, желанность объятий,
неотпусканье их, рук
в жизни не ведал приятней.
Ввек не объяться – испуг.
Мякоть, покой поцелуев,
нити душистых волос,







