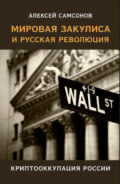Алексей Самсонов
Убийство Сталина. Начало «Холодной войны»
То есть проверка фактов, указанных в заявлениях Тимашук, была проведена объективно. И никакого вымысла и «паранойи» не было.
Со дня смерти Сталина приказано считать, что Виноградов, Этингер и другие врачи – настоящие айболиты, а вот злая Тимашук… Но: «Когда 4 ноября оперативники пришли за Виноградовым, их поразило богатое убранство его квартиры, которую можно было спутать со средней руки музеем. Профессор происходил из провинциальной семьи мелкого железнодорожного служащего, но ещё до революции, благодаря успешной врачебной практике, успел стать довольно состоятельным человеком, держал собственных призовых лошадей, коллекционировал живопись, антиквариат. Стены его квартиры украшали картины Репина, Шишкина, Брюллова и других первоклассных русских мастеров. При обыске были обнаружены, кроме того, золотые монеты, бриллианты, другие ценности, даже солидная сумма в американской валюте» [165; с. 642]. Если наличие картин можно было бы объяснить тем, что Виноградов оказывал платные услуги в частном порядке, то наличие американской валюты… Без сомнения, решение Сталина об аресте «доктора» Виноградова и других не было безосновательным, а существование англо-американского заговора – реальным. Ибо «айболит» знал больше, чем мы сегодня.
Следователем по делу был назначен Михаил Рюмин (1913–1954). Он доложил об открывшихся фактах министру ГБ Абакумову. Абакумов сказал, что в условиях тотальной слежки за кремлёвскими врачами это не возможно. Тогда Рюмин выступил на партсобрании с заявлением, что им раскрыт заговор, а Абакумов не придаёт делу должного значения. В результате Рюмин получил выговор и был отстранён от дела и отправлен на работу в Крым. Из Крыма Рюмин передал через знакомого чекиста в охране Маленкова письмо с сообщением о заговоре и о позиции Абакумова. Маленков рассказал Берии и Сталину. Сталин вызвал Рюмина. Рюмин сказал Сталину, что Абакумов приказал не давать ему материалы по заговору. Выслушав его рассказ, Сталин приказал Рюмину доставить к нему на допрос Этингера. «По-совпадению», в это время Этингер сидел в карцере якобы за нарушение режима. Карцер представлял собой холодное помещение, в котором человек мог находиться не более 5–6 часов. Этингера же держали там больше суток… Абакумов доложил Сталину, что тот умер от инфаркта. Узнав об этом, Сталин немедленно отстранил Абакумова от работы и 13 июля 1951 года он был заключён под домашний арест. Рюмин был назначен заместителем министра МГБ по следственной работе.
2 июня 1951 года Рюмин пишет донесение Сталину: «В ноябре 1950 года мне было поручено вести следствие по делу арестованного доктора медицинских наук профессора Этингера. На допросах Этингер признался, что он являлся убеждённым еврейским националистом и вследствие этого вынашивал ненависть к ВКП(б) и советскому правительству. Далее, рассказав подробно о проводимой вражеской деятельности, Этингер признался также и в том, что он, воспользовавшись тем, что в 1945 г. ему было поручено лечить тов. Щербакова, делал всё для того, чтобы сократить последнему жизнь.
Показания Этингера по этому вопросу я доложил заместителю начальника следственной части тов. Лихачёву, и вскоре после этого меня и тов. Лихачёва вместе с арестованным Этингером вызвал к себе тов. Абакумов. Во время “допроса”, вернее беседы с Этингером, тов. Абакумов несколько раз намекал ему о том, чтобы он отказался от своих показаний о злодейском убийстве тов. Щербакова. Затем, когда Этингера увели из кабинета, тов. Абакумов запретил мне допрашивать Этингера в направлении вскрытия его практической деятельности и замыслов по террору, мотивируя тем, что он – Этингер – “заведёт нас в дебри”. Этингер понял желание тов. Абакумова и, возвратившись от него, на последующих допросах отказался от всех своих признательных показаний, хотя его враждебное отношение к ВКП(б) неопровержимо подтверждалось материалами секретного подслушивания и показаниями его единомышленника, арестованного Ерозолимского, который, кстати сказать, на следствии рассказал и о том, что Этингер высказывал ему своё враждебное отношение к тов. Щербакову.
Используя эти и другие уликовые материалы, я продолжал допрашивать Этингера, и он постепенно стал восстанавливаться на прежних показаниях, о чём мною ежедневно писались справки для доклада руководству.
Примерно 28–29 января 1951 г. меня вызвал к себе начальник следственной части по особо важным делам тов. Леонов и, сославшись на указания тов. Абакумова, предложил прекратить работу с арестованным Этингером, а дело по его обвинению, как выразился тов. Леонов, “положить на полку”.
Вместе с этим я должен отметить, что после вызова тов. Абакумовым арестованного Этингера для него установили более суровый режим, и он был переведён в Лефортовскую тюрьму, в самую холодную и сырую камеру. Этингер имел преклонный возраст – 64 года, и у него начались приступы грудной жабы, о чём 20 января 1951 г. в следственную часть поступил официальный врачебный документ, в котором указывалось, что “в дальнейшем каждый последующий приступ грудной жабы может привести к неблагоприятному исходу”. Учитывая это обстоятельство, я несколько раз ставил вопрос перед руководством следственной части о том, чтобы мне разрешили по-настоящему включиться в дальнейшие допросы арестованного Этингера, и мне в этом отказывалось. Кончилось всё это тем, что в первых числах марта Этингер внезапно умер и его террористическая деятельность осталась не расследованной.
Между тем Этингер имел обширные связи, в том числе и своих единомышленников среди крупных специалистов-медиков, и не исключено, что некоторые из них имели отношение к террористической деятельности Этингера. Считаю своим долгом сообщить Вам, что тов. Абакумов, по моим наблюдениям, имеет наклонности обманывать правительственные органы путем замалчивания серьезных недочетов в работе органов МГБ».
[В скобках несколько слов о Якове Этингере. Он из состоятельного еврейского рода, сын купца 1-й гильдии Гилеля Симховича Этингера; мать – Ципа Яков-Овшиевна Этингер (Горовиц). Гилелю Этингеру принадлежал «Торговый дом Г. Этингера» занимался импортом и торговлей граммофонами, патефонами, пишущими машинками.
Окончил естественно-математический факультет Кёнигсбергского университета в 1909 году, медицинский факультет Берлинского университета в 1913 г., доктор медицины (1913 г.). Во время учёбы примкнул к социал-демократам. В 1914 году призван в царскую армию, ординатор госпиталя. В 1918 году вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). В Гражданскую войну начальник военного госпиталя. В 1920–1921 гг. заведующий терапевтическим отделением Витебской городской больницы. И т. д. Долгое время был консультантом Лечебного санитарного управления Кремля.]
Становятся известны сведения о подготовке Абакумовым переворота. Проводятся аресты его 10-ти замов и несколько руководителей МГБ. Выясняется, что Абакумов, вопреки запрету (тогда расследовалось антибериевское Мингрельское дело) посвящает Берию в работу МГБ [274; с. 362, 364]. Абакумов обвинялся в сокрытии данных о заговоре, имевшего целью убийство Сталина. Вместе с ним обвинялись руководители МГБ Питовранов, Селивановский, Грибанов, Белкин, Райхман, Шубников [274; с. 377].
Сталин дал задание перепроверить все полученные данные о врачах.
И только после установления фактов неправильного лечения следствием было доложено руководству страны, что заявление Тимашук не является клеветой на врачей. Так же МГБ была установлена связь некоторых врачей с американской разведкой и сионистскими кругами. 13 января 1953 года ТАСС опубликовало заявление, в котором говорилось, что врачи умышленно неправильно лечили Жданова и Щербакова и что они были связаны с сионистской организацией «Джойнт», связанной с американской разведкой.
Клубок был большим. Связи в нём держались на родстве и клановости. Так, М. Вовси был братом С. Михоэлса (возможного «президента Крыма»). Другой его брат жил в это время в Израиле, где занимался разработкой бактериологического оружия. У многих врачей были родственники, живущие на Западе, в частности, в Америке.
Сионисты немедленно отреагировали на арест своей агентуры шквалом антисоветских выступлений в газетах и по радио.
28 января 1953 года сионистские бандиты подожгли магазин советской книги на территории посольства СССР в Тель-Авиве. 11 февраля СССР разорвал дипотношения.
Я приведу выдержки из воспоминаний профессора Якова Рапопорта, который также был арестован и просидел два месяца в «Лефортово». Ему предъявили обвинения в терроризме и в еврейском национализме. «Терроризм» он с негодованием отверг, а вот «национализм»… Он прямо выпирает на протяжении всей книги «Дело врачей 1953 года. Показания обвиняемого» (М., «Алгоритм», 2017): «Вечером 14 марта в камеру вошел надзиратель, но, вместо обычного маршрута на допрос, повел меня вниз, в комнату, которая меня гостеприимно приняла по моем прибытии в Лефортовскую тюрьму…
Где-то в тени, в глубине кабинета сидел мой следователь (я его даже не сразу заметил). Генерал встретил меня неожиданным, по мягкости тона и по форме, приветствием: “Здравствуйте, Яков Львович!” Так встречает врач прибывшего в санаторий нового больного, это – лицемерный символ внимания к человеку.
“Паспортные” данные генерала мне не были известны и остаются неизвестными до сих пор. Поэтому на его приветствие я ответил лаконичным: “Здравствуйте”. Я был более удивлен, чем обрадован самим приветствием и его формой, так как в этом учреждении подобное приветствие могло быть и издевательской прелюдией к чему-то грозному, игрой кошки с мышкой. Поэтому с настороженностью я встретил внимательно-изучающий и, как мне показалось, сочувствующий и доброжелательный взгляд генерала и последующее за ним обращение к полковнику: “Что за вид у профессора?” Меня поразило и слово “профессор” в такой ситуации, где я был только врагом народа, и скрытый упрек полковнику, если это только не было скрытой издевкой. Вид у профессора был, действительно, не величественный: остриженный наголо, небритый, на резко похудевшем лице – выдающийся нос; арестантская рубаха без пуговиц, пиджак – тоже без пуговиц, брюки, болтающиеся на единственной спасительной пуговице. Иногда, глядя на себя в водяную поверхность (в заполненную водой миску), заменявшую мне зеркало, я сам приходил к выводу, что натурой мужской красоты я быть не могу. На вопрос, поставленный полковнику, ответил я следующий возбужденной репликой: “Какой вид? Наверное, устрашающий, какой должен быть у еврейского террориста”. Как бы отвечая на мою реплику, на содержащуюся в ней и по существу и по тону злость и обиду, генерал обратился ко мне со следующими словами (помню их почти текстуально): “Яков Львович, забудьте о том, что было на следствии. Ведь следствие – это следствие, по ходу его всякое бывает (в этих словах я уловил скрытое извинение): скажите с полной откровенностью, что же в действительности было. Не бойтесь никакой ответственности за свои слова, я даю вам слово, что никаких последствий всё, что бы вы ни сказали, иметь не будет”. Я без задержки ответил: “Да ничего абсолютно не было. Были честные советские люди, преданные Советской стране и тому делу, которому они служили. Единственное, что было, – это расслоение профессуры по национальному признаку, которое возбуждали и поддерживали черносотенцы, некоторые из них – с партийными билетами. К таким я в первую очередь отношу во 2-м Московском медицинском институте, обстановка в котором мне знакома, профессоров Г.П. Зайцева, заместителя директора по научной и учебной работе, и В. А. Иванова, секретаря партийной организации института (Прямо, донос. – А. С.).
Они создавали атмосферу расслоения, организовывали подлинную травлю профессоров-евреев, способствовали возникновению у них чувства протеста и подавленности, тем более что один за другим они под разными предлогами изгонялись из института”. Генерал подал реплику-вопрос: “Но ведь они были советскими людьми?”, на что последовал мой горячий ответ: “Конечно, это были превосходные педагоги и ученые, вкладывавшие в преподавание всю свою душу, воспитавшие тысячи врачей, и их активная деятельность в немалой степени способствовала репутации 2-го Московского медицинского института, как лучшего медицинского вуза в СССР”. Далее я повторил многие факты дискриминации евреев, признания которых являются тяжким обвинением в “еврейском буржуазном национализме”. Затем следовал вопрос о Вовси, – что я могу о нём сообщить. Я ответил, что знаю М.С. Вовси много десятков лет, и всё, что я о нём знаю, совершенно не вяжется с ним, как с политическим деятелем, поскольку он всегда был далек от политических проблем. У него не было интереса к ним и в силу некоторых особенностей его характера, к которым относится эгоцентризм и забота о собственном благополучии и благополучии семьи. Я сказал, что знаю о тяжёлом положении, в котором находится М.С. Вовси, признавший свою вину в террористической и шпионской деятельности. И тем не менее это признание абсолютно противоречит моим представлениям о Вовси (при этом генерал и полковник переглянулись). Тем более полной неожиданностью для меня было сообщение 13 января 1953 года, в котором М.С. Вовси изображался как лидер антисоветской террористической организации, роль которой абсолютно не соответствовала его общему облику. Кроме того, ведь М.С. Вовси был во время Отечественной войны главным терапевтом Красной (Советской) Армии и первым организатором терапевтической службы в Армии во время войны – роль, с которой он блестяще справился. Доверие, оказанное ему таким важнейшим поручением, предполагало, что он политически проверен и перепроверен, и поэтому выдвинутые против него обвинения в преступлениях, в которых он признался, были громом среди ясного неба. Потрясал не только характер преступлений, но и то, что их совершил М.С. Вовси. Я на протяжении многих лет общался с М.С. Вовси и редко слышал от него высказывания на политические темы. Во всяком случае, ни одно из них не застряло в моей памяти, я скорее помню, что я ему говорил (в частности, о положении дел в Институте морфологии), чем то, что он говорил мне, хотя он – главарь политической антисоветской организации, в которую я якобы вхожу. В тюрьме я узнал, что со мной вместе в неё входит Е.М. Вовси, брат погибшего артиста С.М. Михоэлса (Вовси) и двоюродный брат М.С. Вовси. С ним я едва был знаком, несколько раз видел его на даче, которую снимал М.С. Вовси по соседству с моей. Я не столько видел его, сколько слышал: он любил (но не очень умел) петь и нередко нарушал своим пением дачную тишину. Оказалось, что мы с ним состоим в одной и той же преступной организации, о которой, вероятно, оба до ареста и не подозревали.
Генерал поинтересовался и моей деятельностью как патологоанатома (в аспекте приписываемых мне преступных действий). Я рассказал ему вкратце о принципах и формах взаимоотношений патологоанатома и клинициста… Я сам никогда не становился в позу прокурора и внушал это своим ученикам и сотрудникам, предлагая им представить себя самих у постели больного или у операционного стола в трудных случаях. Задача патологоанатома объяснить существо болезненного процесса и раскрыть существо и природу ошибки лечащего врача, если она была допущена, а не быть обвинителем, если только имеем дело с добросовестным врачом, а не невеждой и медицинским хулиганом (на моём пути такие встречались, хотя и крайне редко). Серьезные ошибки я встречал и у крупных клиницистов с мировой известностью, и если бы я становился в позу прокурора, то перегрузил бы судебно-следственные органы результатами своей деятельности»[33]. «И так день за днем до 21 марта, когда утром снова – прогулка вниз, снова – “чёрный ворон” и снова – Лубянка… Я был введён в зал, где без особого порядка сидели частью за столами, частью – просто в креслах человек 10–12 в штатских одеждах. Лишь в центре всей этой группы сидел за столом полковник, грудь которого была украшена значком “Почётный чекист”. Он вёл всё заседание, но это не было обычным заседанием, производимым по шаблонному, привычному за многие годы плану: выступления, вопросы, заключительное слово председателя и т. д. Это была свободная беседа с преступником, в которой принимали участие без какого-либо регламента все присутствующие, в том числе – и преступник.
Беседу вёл полковник (кажется, фамилия его – Козлов) и давал ей общее направление. Я не помню, с чего она началась, но начало ей положил полковник. По-видимому, с обращения ко мне с “просьбой” рассказать всё, что имеет отношение к моему аресту и к материалам следствия. Разумеется, в центре моего “доклада” был опять проклятый “еврейский” вопрос, поскольку я был “еврейским буржуазным националистом”. Я в свободной форме рассказал о своём возмущении теми проявлениями дискриминации, свидетелем и объектом которой я был. Я рассказал об известных мне многочисленных фактах отказа способным людям в приеме на работу в научные учреждения (я только и знал непосредственно обстановку в них). Привёл в качестве примера историю с приёмом на работу в мою лабораторию в качестве младшего сотрудника моей очень способной ученицы Т.Е. Ивановской (в настоящее время – видный учёный, профессор, заведующая кафедрой патологической анатомии во 2-м Московском медицинском институте). Её девичья фамилия Марухес. Отец был крещеный еврей, женившийся на христианке. В дореволюционные времена браки между евреями и христианами запрещались, и один из брачующихся (еврей) должен был перейти в христианскую веру. Зав. кадрами профессор Зилов обратил внимание на её девичью фамилию – Марухес (Ивановская она – по мужу), выдававшую её частичное еврейское происхождение, и в утверждении в должности отказывал. Но Ивановская, оказывается, была даже крещена после рождения в церкви, и у неё имелось метрическое свидетельство, данное настоятелем церкви. Узнав об этой пикантной детали, я уговорил Ивановскую, несмотря на её сопротивление, отнести Зилову это метрическое свидетельство с ссылкой на то, что я просил приобщить его к делу. Зилов сделал возмущенный вид, что ему этот документ не нужен, но тем не менее на следующий день Ивановская была зачислена на работу. Я привёл другие многочисленные примеры дискриминационных актов по отношению к лицам еврейской национальности при приеме их на работу в научные учреждения и при сокращении штатов, что возмущало меня как коммуниста-интернационалиста. Собеседование на эту тему было оживленным, в нём приняли участие многие из присутствовавших, подававшие различного рода реплики, но когда выяснилась невозможность отрицания или опровержения самих фактов, тогда полковник задал мне следующий вопрос общего принципиального характера: “Считаете ли вы правильным, что имеются научные институты, где 50 % сотрудников – евреи?” Я на это ответил: “Если бы меня спросили, считаю ли я правильным, что имеются научные институты, где 50 % сотрудников бездарные идиоты, я бы ответил, что это неправильно, а я всегда прежде всего исходил в оценке качества сотрудника только с точки зрения интересов науки” (То есть все, кроме евреев, идиоты. – А. С.). Далее я сказал, что внимание к национальному составу научных работников возникло после введения высоких ставок зарплаты, до этого никто евреев не считал. Я лично избрал для себя после окончания мед. института малодоходную теоретическую специальность; моя зарплата ассистента была 27 рублей в месяц, и в то время мало интересовались моей национальностью, кроме разве традиционных антисемитов в среде старой профессуры (таковые были!) (Ах, сволочи! -А.С.).
Продолжая собеседование, я рассказал об эпизоде с изданием руководства по гистологической диагностике опухолей с изгнанием меня и профессора Шабада из авторского коллектива. С особым возмущением я говорил об издевательствах, которым подвергаются юноши и девушки на приемных экзаменах в вузы и в аспирантуру, о том, какие незаживающие душевные раны наносятся этой молодежи, идущей на экзамен с полным доверием к экзаменаторам с оскорбляющим достоинство издевательским “провалом” экзамена. Я напомнил об эпизоде на уроке географии в школе моей младшей дочери, где был глупый выпад преподавательницы в адрес моей дочери, содержащий обвинение в преклонении перед Америкой и в антипатриотизме. Все присутствовавшие на “заседании” бурно реагировали на это сообщение, убеждая меня не обращать внимания на выступление “какой-то дуры”.
В общем, меня пытались убедить в необоснованности моих утверждений о наличии актов дискриминации не как о случайном явлении. Всё это происходило в свободной беседе, в процессе которой меня не обвиняли, а убеждали. Меня это поразило. Ведь я не знал, в каком обществе я нахожусь, какие задачи у этого заседания, какие его конечные цели. Я по наивности полагал, что это – суд, и был приятно поражён свободной обстановкой суда, в котором подсудимый был стороной обличающей, а судьи – убеждающей и с явным стремлением не обвинить, а убедить подсудимого в его заблуждении, перестроить его отношение к дискутируемым вопросам. Так как, по-видимому, эти попытки имели мало успеха, ввиду упрямства подсудимого, а особую горячность я проявил в рассказе о дискриминационных актах в отношении молодежи, то председательствующий полковник сделал попытку “урезонить” меня следующими словами (передаю почти дословно): “Почему вас так волнует еврейская молодёжь? Образование у вас русское, родной язык русский?” Я понял, что это – доброжелательный жест для приобщения меня к общей нейтральной линии в “еврейском вопросе”, приведения в «христианскую веру», что это была палочка, протянутая мне для извлечения из смрадного болота “еврейского буржуазного национализма”. Но я настаивал на своём праве возмущаться несправедливыми и ранящими душу поступками в отношении еврейской молодёжи. В общем, я сдержанно отнесся к протянутой палочке»[34].
[О семье. Яков умер в 1996 г. возрасте 97 лет; его старшая дочь Ноэми в 2000 г. уехала в Кассель, где умерла в 2017 г.; а вторая дочь Наталья ещё в 1990 г., по приглашению университета штата Юта, уехала и стала там профессором. Ясно, что приглашение пришло не само по себе – значит, была предварительная «работа»… Видимо, для них в «железном занавесе» были дырки. Так что «дело врачей» ещё изучать и изучать.]
Следствие по делу велось очень странно и буксовало при наличии очевидных фактов.
Но всё выяснилось, когда внезапно умер Сталин. Оказывается, дело врачей являлось интригой группы карьеристов и вредителей из аппарата МГБ (вопрос: зачем нужно было “карьеристам из МГБ” фабриковать дело именно против врачей?)
МГБ было ликвидировано. Начальник следственной части Рюмин и его помощники по приказу Берии были арестованы, а уже при Хрущёве расстреляны.
10-13 июня состоялся допрос Рюмина. Ясно, что был протокол допроса. Берия направил протокол Маленкову. Но что мы видим? Из протокола следует, что «дело врачей» создал лично Рюмин – он ввёл в заблуждение Абакумова, Игнатьева и, соответственно, Сталина. А те, дурачки, поверили…[35]
Рюмин на многих страницах хорошим литературным языком рассказывает, какой он плохой. Так человек мог написать, но не сказать. Зачем-то говорит, что он утаил от МГБ сведения о родственниках. Сам протокол производит странное впечатление: его содержание противоположно всем предшествующим документам. Более того, Рюмин ничего не говорит о проведённых экспертизах – а ведь он должен был на них постоянно ссылаться!
Вывод: «протокол» есть подделка Берии, Маленкова и др. для Истории. Мол, сам главный по «делу» признаётся, что лично выдумал его и водил за нос Сталина.
Подлинний протокол был уничтожен, если вообще вёлся, в чём я сомневаюсь.
И это так. 12 сентября 1953 года генеральный прокурор Р. Руденко и министр МВД С. Круглов написали на имя Маленкова записку об окончании следствия. Она точь-в-точь повторяла «протокол»[36]. Но в Лефортовской тюрьме Рюмин стал писать письма на имя Маленкова. В письме от 30 сентября он, в частности, писал: «Дорогой товарищ Маленков, меня беспокоит больше всего то, что я оклеветал преданных, как я полагаю, партии: Игнатьева, и др. прошу передать им моё глубочайшее извинение за то, что я не выдержал нажима и написал “показания”. Их я переписывал 4 раза, израсходовав больше 100 листов бумаги»[37]. В другом (от 14 ноября): «В самом начале следствия Л. И. Берия строго объявил мне: “Больше я вас и вы меня не увидите. Мы вас ликвидируем!”»[38]. То есть из Рюмина сделали «чекиста отпущения», чтобы свалить всё на него, закрыть дело – и концы в воду. Поэтому мы никогда не узнаем всей правды о «деле врачей» и «деле ЕАК» – дел, которые стали роковыми для Сталина.
В апреле 1954 года Руденко и Круглов подготовили Обвинительное заключение, в котором повторили «протокол»[39]. И 7 июля Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла приговор – расстрел[40].
[О сборнике документов. Да, ранее много публиковали отдельные документы, но когда читаешь их все вместе (добавлено много никогда не публиковавшихся), создаётся совсем другая картина. Становится ясно, почему Рюмин 4 раза переписывал «свои» показания… Да, «дело врачей» и «дело ЕАК» надо изучать.]
4 апреля 1953 года было опубликовано сообщение о реабилитации врачей[41]. За день до этого был отменён Указ о награждении Лидии Тимашук орденом Ленина. До выхода на пенсию в 1964 г. она работала в 4-м Главном управлении Министерства здравоохранения СССР. Умерла в 1983 году.
Летом 1953 года были восстановлены дипотношения с Израилем.
А о деле врачей стали писать в кавычках – «дело врачей» и оно вошло в историю как «одна из многочисленных преступных провокаций Сталина» [165; с. 629]. Правда, не уточняется, зачем Сталину была нужна эта провокация.
Хочу привести ещё одну цитату из книги Рапопорта о том, как проходила реабилитация врачей: «Наконец, наступил незабываемый вечер 3 апреля. Был предзакатный час. Я сидел у себя в камере на койке и с интересом читал какую-то книгу. Название и автора я быстро забыл. Должно быть, последующие события прочно вытеснили их. Я только помню, что я с сожалением оторвался от этой книги вследствие вторжения надзирателя в камеру. Он ворвался как метеор и с большой торопливостью и суетливостью обратился с требованием быстро собирать вещи для отбытия из тюрьмы, помогая мне в этом для ускорения этого процесса. Он принес наволочку с моими вещами, собранными при аресте, и в неё мы вдвоем стали складывать остатки съестных припасов, бывших в камере, мыло, зубную щетку. Среди съестных остатков были кусок копченой колбасы, пачка печенья, полбуханки ржаного хлеба, несколько луковиц. Все эти гастрономические излишества получены были в качестве дополнительного пайка за деньги из передвижной лавки, посещавшей камеры один раз в десять дней. Возможность и право пользоваться лавкой я получил после снятия наручников и отмены 9 марта штрафного состояния. У надзирателя не было никакого представления о моём дальнейшем арестантском пути. Во всяком случае, он никак не предполагал, что этот путь ведет на свободу, по-видимому, в его опыте из Лефортовской тюрьмы такого пути не было. На мой вопрос – надо ли брать с собой хлеб, он ответил: “Всё бери, все бери, там всё пригодится”.
Собрав нехитрый арестантский скарб, спустились вниз, где произошла процедура смены казенного белья на своё собственное, снятое при приеме в этот санаторий. Эффект пребывания в нём обнаружился немедленно при переодевании в собственное белье. Оно на мне висело, как на вешалке (в дальнейшем выяснилось, что в тюрьме я оставил 14 килограммов веса). Я констатировал это словами: “Оставил свой живот здесь”, на что спутник-надзиратель назидательно отреагировал: “Вот, вот, на курорты не надо ездить. Хорошей жизни захотелось!”
…Со всей этой гаммой переживаний я втиснулся в вертикальный ящик “черного ворона” при свете уходящего дня. Его реальный свет, а не угадываемый из стен камеры, как бы озарял тревожную надежду, с которой я погрузился во внутреннюю тьму “чёрного ворона”.
Вышел я из него в знакомом внутреннем дворе Лубянки, оттуда в такой же знакомый буднично-казенный вестибюль, оттуда в чулан со своим узелком. Прошло некоторое время, сколько – я не знаю, его отсчитывало только лихорадочно бившееся сердце. Телефонный звонок в вестибюле, и я услышал свою фамилию, произнесенную дежурным. Открылась дверь чулана, и капитан с каким-то несколько сумрачным, испещренным оспинными крапинками лицом вызвал меня на допрос… В сопровождении рябого капитана я был поднят в лифте на какой-то высокий этаж и был введен один (капитан остался за дверью) в просторный кабинет, где меня у входа встретил коренастый, плотный, с проседью в черных волосах генерал, поздоровавшийся со мной словами: “Здравствуйте, Яков Львович”, и подавший мне руку для рукопожатия, которую я, разумеется, принял. Уже эта встреча была многообещающей. В кабинете был с правой стороны в глубине его письменный стол с креслом, перед ним – два кресла; прямо против входной двери у стены – небольшой стол, на нём графин с водой и стакан, по обеим сторонам – стулья. Генерал предложил мне сесть; на мой вопрос, где я могу сесть, он сделал широкий жест рукой, охватывающий весь кабинет, даже его кресло, перед письменным столом, с предложением выбора любого места. Я скромно сел не за его письменный стол, а на стул около столика с графином. Стоя против меня, генерал участливо спросил: “Как вы себя чувствуете, Яков Львович?” Я ответил несколько возбужденно: “Как может чувствовать себя человек в моём положении?” Генерал с сочувствующим любопытством (так мне показалось) посмотрел на меня, несколько раз прошелся по кабинету и обратился ко мне со следующими словами: “Так вот, я пригласил (!) вас сюда, чтобы сообщить вам, что следствие по вашему делу прекращено, вы полностью реабилитированы и сегодня будете освобождены”. При этой информации я расплакался. Вся горечь происшедшего и неожиданность такого финала вылилась в коротких слезах, я быстро взял себя в руки, выпил полстакана воды, заботливо поданной мне генералом. Генерал, по-видимому, чтобы рассеять обстановку, придать ей более жизнерадостный характер, сказал: “Я распорядился, чтобы вас проводили, вы скоро будете дома, но часа полтора уйдет на всякие бюрократические формальности (в его тоне просквозило какое-то, вероятно, искусственное сожаление о неизбежности этих формальностей). Перед отъездом позвоните внизу по телефону домой, предупредите, чтобы вас ждали”. Всё ещё не веря и желая убедиться, нет ли здесь какой-либо ошибки или игры (я всё ещё опасался её), и выяснить ещё раз отношение к “еврейским делам”, я сказал: “Но ведь были какие-то еврейские дела?”, на что генерал сделал пренебрежительный жест, мол, всё это ерунда. Я спросил у него о том, как я должен держать себя на свободе, имея в виду невозможную сдержанность в информации о событиях в период моего ареста, на что генерал ответил: “Вы должны держать себя как человек, подвергшийся незаконному и необоснованному аресту”. С этими словами он попрощался со мной, с какими-то пожеланиями, содержание которых выпало из памяти… “Бюрократические формальности” привели меня опять в бокс-чулан в каком-то верхнем этаже, где в состоянии блаженной растерянности я стал ждать их конца, не понимая и не зная, в чём они состоят. Время тянулось медленно. Я слышал за дверьми чулана какую-то суету и человеческую возню, до меня доносились какие-то голоса, а я всё ждал, когда же распахнется дверь чулана. Наконец, она раскрылась, и в сопровождении какого-то чина меня ввели в обширный кабинет, показавшийся мне по величине залом, где за скученными без порядка канцелярскими столами сидело много военных, показавшихся мне молодыми полковниками. Один из них, под любопытные взоры остальных, как будто присутствующих при интересном зрелище, вручил мне отпечатанную на машинке справку со штампом Министерства внутренних дел СССР, датированную 3 апреля 1953 года. Привожу содержание справки полностью, поскольку она была первой ласточкой в последующей многомиллионной серии подобных справок. Но в отличие от моей справки, отпечатанной на машинке, что подчеркивало её индивидуальность, последующие имели уже стандартную типографскую внешность. В моей справке значилось: