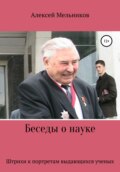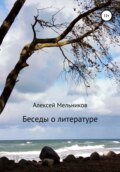Алексей Мельников
Адреса памяти
Певец неволи
В середине 90-х он был достопримечательностью улицы Кирова – одной из главных в Калуге. В суконном, темного цвета длинном пальто, кроличьей шапке, с карломарксовской круглой бородой старик практически ежедневно дежурил перед выставленным на тротуар деревянным ящиком с разложенными на нем одинаковыми книжками в твердом грязновато-черном переплете.
Прохожие подходили к нему редко. Видно, опасаясь его несколько дремучего вида, пронзительного, достающего до самых печенок взгляда – когда с ехидной хитринкой, а когда и напитанного прокурорским обличеньем. Чувствовалось, что старик был особенный. Не такой, как все. Не торгаш. Не заискивал. Не навязывался. Не хватал за рукав. И тем больше пугал и озадачивал.
Среди холмов
В тайге сибирской,
Вдали от шумных городов,
В глухой деревне Пойма-Тинской
Лет двадцать пять стоит дурдом.
Растет, заборы расширяя,
Трудом больных строит дома.
А их везут. И нету края
Всем, кто тронулся ума…
Как позже выяснилось, подобными, довольно нервными, со сбивчивым шагом, пропитанными щемящей тоской и болью стихами была переполнена книга, что лежала на деревянном ящике перед загадочным стариком. На обложке лаконично серебрились инициалы автора «Н.В. Бессонов». А под ними название – «ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ».
Однажды я осмелился и подошел к бородатому часовому в длинном пальто. Взял в руки шершавый томик. Старик оживился: «Почитайте». Я полистал. Серая дешевая бумага, размытые черно-белые редкие фото. Колонки стихов. А под каждым – дата и место сочинения: психбольница в поселке Пойма-Тина (где это?), Томская тюрьма, Красноярский изолятор, КПЗ г. Балахна, Черное море – теплоход «Колхида», областная психбольница г. Куйбышев, исправительно-трудовая колония г. Товарково, Волгоградская КПЗ, калужская психбольница «Бушмановыка», г. Дивногорск, г. Одесса, Смоленская тюрьма, «Матросская тишина» – камера № 237, село Константиново – Рязанский край и т.д.
Я не хотел покупать – не люблю тюремный фольклор. Но бородатый старик мне чем-то приглянулся. Не помню, заплатил ли я что-то за томик стихов или нет. Кажется, на радости, уличный поэт вручил мне его даром. Спросил, как зовут. Достал из кармана грубого пальто шариковую ручку и подписал: «Мельникову Алексею от автора. Н. Бессонов. 11.10.1997. г. Калуга». Больше книгу я не открывал. Она постепенно затерялась, пока я случайно не обнаружил ее у себя в гараже. И ровно через 20 лет открыл вторично.
Жизнь, тебя я люблю!
Не беда, что ко мне ты сурова:
Раз попал я в тюрьму,
А потом уже снова и снова…
Одной лишь перестановкой слов из знаменитой песни Бернеса автор прочертил непересекающуюся с повседневностью параллель другого, неизвестного нам мира – гигантской тюремной галактики. Почти вселенной. Николай Бессонов обошел ее практически всю. Протрясся в зарешеченных вагонах, прошагал в тюремной робе, проплыл в затхлых каютах невольничьих ржавых корыт, промаялся на койках десятка психушек. И сохранил в себе силы признаваться жизни в любви. Даже такой невзаимной…
Над Россией зарей
Полыхает великая стройка.
За тюремной стеной
Та же плесень и та же помойка.
Жизнь, за будущий день
Мое сердце тревога сжимает –
Слишком длинную тень
В наше время заборы роняют.
Не помню, чтобы на родине кто-то сегодня вспоминал имя самобытного поэта Николая Бессонова, родившегося в 1929 году в калужской Хлюстинской больнице. Бунтаря и правдолюбца, кадрового заключенного и пациента психушек, мастеровитого слесаря и фрезеровщика, необычного стихотворца или, как сам себя величал калужский певец неволи, – «рифмача».
Не иждивенцем прожил я,
Не поила меня даром
Ключевой водой Земля.
Служил на ней я кочегаром…
Некая «закопченность» поэтических строк Бессонова – повсеместна. Гарь и копоть жестокого, тюремного века легли на его страницы довольно жирным слоем и впитались в поэтический дар закоренелого жизнелюбца насовсем.
Устало сердце. Мозг устал.
И чай не согревает тело.
Боль, как заостренный металл,
По рукоятку в душу села…
Впрочем, нет-нет да и вырывал Николай Бессонов свою тюремную лиру из-за колючей проволоки и писал этюды…
Стаи журавлиные
В синеве летят.
По земле нежирные
Тени их скользят.
Сок перегоняя
К каждому листу,
Землю разгрызая,
Корни лезут в тьму.
Лес застыл стволами
В гордости скрипучей.
С запада стогами
Выползают тучи.
Лист щебечет, лижется,
Стонут глухари.
Буря к лесу движется
На восход зари.
Но это бело редко – передышки от больничных и тюремных палат. Большая часть стихов (как и сам автор) родились в больницах. И даже имеют посвящения выдающимся калужским эскулапам тех времен: просительно-негодующее – Александру Ефимовичу Лифшицу, главврачу «Бушмановки» («Отпустите меня, не мучая. Не подлец я и не хам»); благодарно-уважительное – Самуилу Давыдовичу Шпигельману, завотделением Красного креста («Врач умными руками прощупал каждому живот»).
В череде посвящений калужского поэта-узника есть немало од в адрес… самих застенок, где томился Бессонов. А также – их надсмотрщиков. Как, впрочем, и их жертв – сокамерников поэта.
…Чей пот поил поля России
За мерзлый хлеб – мечты предел…
Его вина?– Его убили
За то, что он не повзрослел…
Я листаю подаренную мне двадцать лет назад забытым калужским поэтом книгу. Читаю его роман в стихах. Назва- ние его простое и страшное: «Зачем нас мама родила?» («На Колыме спасенье – труд. Даешь две нормы – не убьют»). Возвращаюсь к стихам. Среди них – еще одно послание. На этот раз – некоему Нужненко из калужской психбольницы «Бушмановка». Кто такой Нужненко – Бог ведает. А стихотворение начинается так:
Простите меня, если сможете,
За то, что я правду искал…
Человек с Луны
Он родился за год до нового века. А может – целой эпохи. Родился прежде, чем родилось все вокруг: звезды, планеты, Вселенная. Возможно, даже упредил Большой взрыв. Угадал его будущий сценарий… Кто-то сказал про него: такое впечатление, что Платонов прочитал все написанные после него книги. Те, что еще были лишь в замыслах. Либо – в набросках. Либо – будущие авторы их еще обитали в колыбелях. Либо – обещали появиться только через века…
«Они еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость – жалость потерять свое тело. Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они находились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей, – и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности…»
Загадка – откуда все это взялось. Такой язык. Такой сказ. Такое слово… Сам Андрей Платонов утверждал: с иных планет. «Моя родина – Луна», – признается он в одном из первых любовных писем своей невесте. Не верить ему сложно. На Земле слов меньше, нежели на ней в компании со своей космической соседкой. А если еще и с Марсом, Венерой да схлопнувшимся в черную дыру Тамбовом, то филологический феномен Платонова приобретает ярко выраженные черты многомерного пространства. С потаенными для большинства читателей измерениями, но легко обнаруживаемыми и пускаемыми в литературный оборот платоновским гением.
Пространство это, как мог бы подтвердить Эйнштейн, искривлено. Местами скомкано под тяжестью громоздких масс. Где-то растянуто. А рядом, наоборот, – ужато. Прорежено пустотами. Заполнено ничем. По сути – вакуум, который, исходя из последних догадок астрофизиков, способен бурлить, кипеть и вспучиваться черти какими сущностями. Модель литературного космоса Платонова примерно та же – клокочущее неуловимыми измерениями бытие. «Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благонравен, что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было…»
Породнившись с Луной, он всю жизнь конфликтовал с Солнцем. Строил каналы, заполнял шлюзы, копал колодцы, дабы вылечить хроническую черноземную сушь, всякий раз к августу изъедающую ломкими трещинами тамбовско-воронежские равнины. В союзники сей битвы призвал даже Петра, дав первый мощный литературный залп «Епифанскими шлюзами». И не откуда-нибудь прицелился, а из сколлапсированного за мещанско-бюрократический радиус Тамбова.
Из которого, казалось, уже ничего не может проистечь, кроме смерти. Провалившиеся в черные дыры кометы никогда не возвращаются на свои курсы… «Может быть, мне придется здесь умереть», – тоскливо спрогнозирует свою будущность в этой вселенской ловушке Андрей Платонов. И – не умрет. А вновь родится. И причастится «Городом Градовым». Некоторые кометы, провалившись за радиус Шварцшильда, оказывается, способны выскочить из черной дыры и возвратиться на круги своя… Эйнштейн бы в этом месте крепко задумался. Но он ведь не читал Платонова. А если бы читал, то наверняка подредактировал бы свою теорию относительности.
Его язык называли по-всякому: неуклюжим, дологическим, избыточным, сатирическим, трагическим, псевдоканцелярским, да мало ли еще как. Любой эпитет в отношении главного изобретения Андрея Платонова имел бы толику правды. А изобретение это у генерирующего постоянные технические новшества самородка было одно – платоновский язык. Даже не изобретение, вроде то и дело усовершенствуемых им электроагрегатов, а открытие.
Андрей Платонов свой язык не изобрел, а открыл. Как открывали когда-то прячущуюся за дальними океанами Америку. Правда, в отличие от Колумба, нашедшего неизвестный континент случайно, Платонов точно знал, что его «филологическая Америка» есть. Надо только поднять литературные паруса и до нее добраться. А не исключено проследовать и дальше – до родной Луны… «Все это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него – сотворение мира. Этим люди и держатся».
Евангелие от Исаковского
Как ни корпи сегодня над учебником истории ушедшей страны, как ни усердствуй, он наверняка будет неполным, а скорее, даже ущербным – без его песен. Без его стихов. Без его глубокого чистого баритона. Без его искренних, честных убеждений. Как, впрочем, и не менее чистосердечных и заблуждений – тоже…
Хотя есть подозрение, что он, этот учебник, вполне может остаться без его имени. Как остаются подчас безымянными истинно народные творения. Те, что непосредственно вынимаются из народной души и без посредничества профессиональных сочинителей, музыкантов и ваятелей прямиком отправляются в вечность. Чтобы уже там поведать главную истину о своих творцах. Проживших жизнь так ярко, как сумели, и спевших песнь настолько звонко, сколь смогли…
Растаял снег, луга зазеленели,
Телеги вновь грохочут на мосту,
И воробьи от солнца опьянели,
И яблони качаются в цвету…
Раскрыты окна. Веет теплый ветер.
И легкий пар клубится у реки,
И шумно солнцу радуются дети,
И думают о жизни старики.
Миша был двенадцатилетним ребенком в бедной крестьянской семье. Девятисотый год. Неброская заштатная Смоленщина, скупые нивы, бескормица, безграмотность, нужда и будущее без больших надежд. Да и без самых мелких благодатных – тоже…
Я вырос в захолустной стороне,
Где мужики невесело шутили,
Что ехало к нам счастье на коне.
Да богачи его перехватили…
Щемящая нота недополученного детства, недоигранных в мелкие годы проказ, непрочитанных, раскрашенных ярками красками сказок, недорассмотренного дальше деревенской околицы необъятного, прекрасного мира – все это, нет-нет да и пробивалось как в ранних, так и в более поздних стихах Исаковского. Мучительно пытавшегося совместить в себе нежную любовь к родным смоленским рощам и лугам с отчаянной грустью о тяжких буднях милой сердцу малой отчизны, венчающей рожденных ею в мир сирот на неизбежное блуждание впотьмах без радости и счастья.
Никто мне в детстве не дарил игрушек,
Ни разу я на елке не бывал.
В лесу я слушал, но не птиц, а птушек.
Как мой отец пернатых называл.
Не плавал я в проливе Лаперуза,
Морских просторов не видал пока.
И не читал я Робинзона Крузо,
А знал лишь про Ивана-дурака…
Этот щуплый подслеповатый малец из деревни с многоговорящим названием Глотовка станет вскоре первым грамотеем на множество нищих угорских верст вокруг. Первым букварем, ясное дело, окажется Псалтырь. Главными уроками – отпевание усопших. Скудные дворы и чахлые пашни способствовали тому, чтобы людской поток на местные погосты никогда не иссякал.
Возможно, именно отсюда есть пошла напевность в будущем написанных Михаилом Васильевичем стихов – с молитвенности того еще, впервой прочитанного им когда-то, слова. С напевности слогов, скрепляемых всего сильней, когда они становятся молитвой. Когда последней именно престало зазвучать, обрести глас и возродиться в звуке. Обрести поэтические крылья в народном прошении и ощутить их подъемную силу в искренней мольбе.
Юный сельский грамотей самоуком постигает своеобразный молитвословный канон безграмотных селян. Складывая по их уговорам жалостливые молитвенные прошения к сородичам. И рассылая оные в дальние края. Дабы отыскать в разъединенных набожных сердцах отклик на смиренно сложенные чистые и горькие притчи, что выходили из-под пера будущего псалмопевца Союза.
Исаковский впоследствии смог угадать, найти, раскрыть главный мотив и нерв нового советского молитвословного звучания. Не уступающего по степени любви и проникновенности впопыхах отмененным евангелиям. Одновременно при этом высвечивающего многие нелепости бурного времени, что революционно взломало устоявшийся лексический ряд. И все же – мотив того именно звучания, что облеклось в итоге в человеческий голос грозной эпохи. Простой, между тем, голос, нечужой, понятный и ровный. Словом – родной…
Ваня, Ваня! За что на меня ты в обиде?
Почему мне ни писем, ни карточки нет?
Я совсем стосковалась и в письменном виде
Посылаю тебе нерушимый привет.
Ты уехал, и мне ничего не известно,
Хоть и лето прошло и зима…
Впрочем, нынче я стала такою ликбезной,
Что могу написать и сама…
В голосе Исаковского всегда верно угадывался и он сам. Чистые, ясные, правдивые, а подчас ироничные рифмы вполне были созвучны чистоте помыслов, верности слову и абсолютной правдивости самого Исаковского. Он был точно таким, каким вы видите его в стихах. Никакой аберрации восприятия – «все, как в книжке». Кому, как не ближайшему другу поэта – великому Александру Твардовскому, – было судить о том, каким был на самом деле его нежно любимый Михась.
«Лирика Исаковского, – писал Твардовский, – свидетельствует о цельности его душевного склада, о скромности и достоинстве, о добром, отзывчивом сердце, не склонном, однако, к сентиментальности, вернее, защищенном от нее врожденным чувством юмора. Личный облик поэта представляется в органическом единстве с его творчеством. И поэтому голос его всегда искренен, даже тогда, когда он служит преходящему, газетно-публицистическому назначению».
Михаил Васильевич всегда ратовал за ясность и простоту стиха. Его напевность и народность. Руководствуясь, очевидно, в своем творчестве наставлением Баратынского. Помните?..
…Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? Точный смысл народной поговорки.
Уважительно относясь к творчеству своих не менее талантливых современников – Бориса Пастернака, Ильи Сельвинского – в присущей Исаковскому мягкой форме, критиковал и открыто сих апологетов усложненных рифм. Подтверждением доброжелательности такой критики может служить известный факт о соседских и даже дружеских отношениях Исаковского с Пастернаком в бытность их в Чистопольской эвакуации в грозные годы войны.
С особенным трепетом поэт относился к молодым авторам. Одно только то, что Исаковский первым высмотрел в смоленской глуши будущего автора великого «Василия Теркина» говорит о большом педагогическом даре поэта. Его дружеской и наставнической поддержке обязаны и Александр Твардовский, и Константин Ваншенкин, и многие другие талантливые отечественные литераторы.
Исаковский не любил, когда его называли поэтом-песенником. Хотя песен, ставших народными, сочинил порядка полусотни. Нет смысла их перечислять. Это – народная азбука. Если песня застольная – значит, Исаковского («Расцветали яблони и груши…»). Если что-то проникновенное о войне – его же («С берез, неслышен, невесом…»). Если о любви – наверняка Михаила Васильевича («И кто его знает, чего он моргает…»). Если баюкаете малютку, не сомневайтесь: добрейший дядя Миша вновь придет к вам на помощь («Месяц над нашею крышею светит…»).
Мы живем его песнями. Мы ими дышим. Как воздухом. То есть если песни эти от нас отнять – нас не станет. Просто не станет – и все. Как после ядерного удара. Хотя уже и нет той страны, во имя которой жил и творил их автор. Нет тех границ, что обозначали наличие его любимого СССР на карте. И не присутствуют даже в памятниках те руководители, которым посвящал свои гимны Исаковский. Все равно – лучшая часть этой истории жива. Более того – снаряжена в вечность, которую уже не отменить. К поэтическо-песенным символам которой мы будем еще не раз припадать, как к источнику нашей силы.
А может – веры или просто – любви.
Нет, я не огорчаюся,
Напрасно не скорблю,
Я лишь хожу прощаюся
Со всем, что так люблю!
Хожу, как в годы ранние, –
Хожу, брожу, смотрю.
Но только «до свидания!»
Уже не говорю…
«Я, плача, праздную победу…»
В начале 20-х кто-то из литературных критиков предрек «несовременной» в ту (пролеткультовскую) пору Анне Ахматовой обретение современности через поколение, а может, через два. С момента ухода от нас выдающегося поэта-фронтовика, принципиального публициста, отважного правозащитника Николая Панченко смена поколений… и вовсе пошла в обратную.
Кто такой Панченко? Об этом сегодня знают немногие. Евгений Евтушенко в своей поэтической антологии поименовал выходца с калужских окраин, дважды контуженного и тяжелораненого безусого фронтовика, философа от орудийных залпов и бомбежек, исповедника мучеников великой победы, провидца расстреливаемых в войнах юных солдатских сердец, так вот поименовал он его весомо и просто – «преподавателем совести», самой сложной науки из всех постигаемых человеком дисциплин.
Ну, скажите, откуда у 20-летнего бойца, вскормленного на священной ненависти к лютому врагу, такая рвущая сердце боль?..
– Убей его! – И убиваю,
хожу, подковами звеня.
Я знаю: сердцем убываю.
Нет вовсе сердца у меня.
А пули дулом сердца ищут.
А пули-дуры свищут, свищут.
А сердца нет,
приказ – во мне:
не надо сердца на войне.
Это – из ставшей уже легендарной «Баллады о расстрелянном сердце». 1944 год. Опубликована будет только в 80-х. Ничего подобного фронтовая поэзия еще не знала. Потому что, видимо, редко была правдива. По понятным причинам. «Он ни черта не боялся, – вспоминал друг поэта, писатель, переводчик, ученый и тоже фронтовик Александр Ревич. – Мальчик, во время войны прошедший все, что можно, он написал войну, увидел будущее и результаты этой войны, он увидел грядущее потерянное поколение в этой самой знаменитой «Балладе о расстрелянном сердце». Расстреливается сердце, как боезапас, и люди обесчеловечиваются. Панченко уже тогда предчувствовал обезнароживание населения России. Собственно, то, что мы сейчас и наблюдаем…»
Я долго-долго буду чуждым
Ходить и сердце собирать.
– Подайте сердца инвалиду!
Я землю спас, отвел беду. –
Я с просьбой этой, как с молитвой,
живым распятием иду.
Чуждость распятого сопровождала Николая Панченко неотрывно. Особость, или, как отмечал все тот же Александр Ревич, – «отдельность». И в ранние годы – на фронте, и в средние – в калужской прессе, и в поздние – на столичном литературном олимпе. Не оставила она, эта апостольская отдельность, великого поэтического моралиста и после его смерти. В той же родимой, относительно сытой и самодовольной Калуге ее выдающийся уроженец нынче практически полностью запамятован. Никаких следов пребывания Николая Панченко в городе не отыскать: ни улицы в его честь, ни мемориальных досок на зданиях школы, фасадах редакций и педагогического института, где рос и гранился поэтический алмаз, где затевались Панченко и Кобликовым с благословения Паустовского знаменитые «Тарусские страницы», ни-че-го…
Впрочем, памятная доска на старом здании редакции калужской газеты «Молодой ленинец» несколько лет назад появилась. Но с фамилией другого поэта, не Панченко, а того, кого Николай Васильевич, будучи главным редактором, взял в начале 50-х к себе в штат – Булата Окуджавы. Нет смысла сравнивать силу поэтического дара того и другого, тем более что Панченко и Окуджава оставались друзьями до последних дней. Но все же этот могучий бородач с видом, как выразился Евгений Евтушенко, «то ли православного священника, то ли купца-землепро-ходца», видимо, и впрямь был из совсем другой литературной весовой категории, а именно – еще не появившейся, а только назревающей мучительно и долго…
Верхне-Дворянская улица, 31. Этот калужский адрес – один из ключевых в биографии Николая Панченко. Это – его родина. На современный лад – улица Суворова. Крупная синяя табличка с номером 31 на одном из домов. Но дом другой, понятно: кирпичная пятиэтажка. Само собой, без внешних поэтических примет. Хотя – и в окружении неких судьбоносных деталей. Скажем, за поворотом в тридцати шагах от дома с номером 31, последнее пристанище печатного детища Николая Панченко – газеты «Молодой ленинец». В 2007 году она (уже под названием «Деловая провинция») здесь же, на родине своего отца-основателя, и умерла, в точно такой же, как и у Панченко «чуждости распятого», пережив неистового главреда ранней послесталинской поры всего на два года.
Моя последняя черта.
Все меньше иноков – по следу:
Как ящерица без хвоста,
Я, плача, праздную победу.
Отличительная черта стихов Николая Панченко – будто многие из них высечены из камня. Точнее – каменной рукой из самого себя, из разрываемого болью за победившую страну, израсходованного ненавистью к врагу честного солдатского сердца. «Поэт должен ощущать жизнь содранной кожей», – вспоминал уроки поэтического мастерства Николая Панченко один из самых опытных калужских газетчиков –Алексей Золотин.
Я не болезнь, я боль твоя, Россия,
Не праздничная тряпка к ноябрю,
Но, словно придорожная осина,
Стыдом твоим горюю и горю…
…Я – боль твоя.
И если я умру –
Тебе ж не поздоровится, Россия…
Увы, Россия осталась без Николая Панченко. Без боли о себе. Еще хуже – без памяти об этой боли. Вне боли этой оказалась и малая родина поэта. «Увы, Калуга отбросила память о своем лучшем поэте, – сетует старейший калужский журналист Константин Афанасьев. – Он пришелся не ко двору, потому что не был придворным».
Неистового в совестливости Николая Панченко в начале 60-х изгнали из Калуги. С победой изгнали – с изданными и после в страхе порезанными на куски калужским партначальством тиражами «Тарусских страниц». Выдворили снабженного дружбой с Надеждой Мандельштам, к неудобно нефальшивым воспоминаниям которой он написал философское предисловие, практически годное в программы «партии оттепели». Нет, еще более радикальной – «партии совести», в которой даже штатным «интеллигентам», капитулировавшим перед «цельной идеологией победителей», было не по себе.
Николай Панченко – поэт, писатель, мыслитель, время которого в России пройти не может. Как не может пройти «на выход» и сама страна. В небытие. В беспамятство. В неболь…