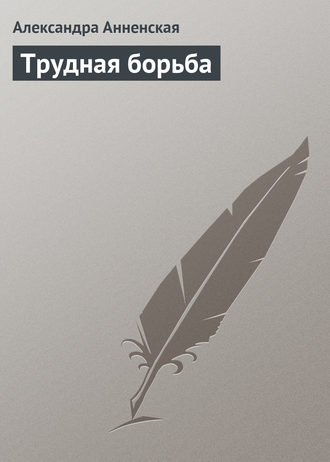
Александра Никитична Анненская
Трудная борьба
Дома все заметили, что Митя не в духе, но не обратили на это большого внимания. После обеда Оля, радуясь тому, что успела утром покончить все свои домашние работы, прошла в его комнату, чтобы, по обыкновению, заниматься вместе с ним.
– Что тебе надо? – сердито спросил мальчик.
– Ничего, я пришла учиться вместе с тобою, – отвечала девочка, собираясь усесться к столу.
– Зачем же непременно вместе со мной, – еще неласковее заметил Митя: – точно тебе нет другого места в доме?! Торчишь вечно тут, из-за тебя приходится терпеть неприятности…
– Какие же неприятности? Кому? – удивлялась Оля.
– Кому? Конечно мне! Гимназисты видели, что ты сидишь тут, когда я готовлю уроки, и смеются над тобой, и надо мной.
– Да что же тут смешного? Какие они глупые, – твои гимназисты!
– Ну да, конечно, все глупые; ты одна отыскалась умница! Сама все делаешь не по-людски, да туда же-глупые!..
– Да что же я делаю дурного, Митя? – сказала Оля, и слезы засверкали на глазах ее.
– А то, что ты занимаешься не тем, чем следует! Ты не мальчик, тебе никакой нет надобности тянуться за мной и учиться тому, чему я учусь: это вовсе не женское дело!
– Но если мне нравится учиться, и если это мне нетрудно? Что же тут дурного-то? я не понимаю…
– Да то, что над этим все смеются, а я не хочу, чтобы из-за тебя смеялись и надо мной! Учись, там, как и чему хочешь, а только ко мне не лезь, и не ходи сюда, когда у меня товарищи…
Оля хотела ответить, хотела попросту выбранить брата, но слезы подступили ей к горлу и не дали выговорить ни слова. Она закрыла лицо руками, выбежала вон из комнаты, спряталась в темный чулан и там дала полную волю своим рыданиям.
Когда мать, тетка, старшая сестра, разные Матрены Ивановны и Анны Степановны осуждали ее занятия, находили, что это не женское дело, она досадовала, но не особенно: она успокаивала себя мыслью, что все эти люди, никогда ничему не учившиеся, заботящиеся только о еде, о квартире да об одежде, не могут ни желать, ни понимать удовольствия, доставляемого умственным трудом. Но когда умный Митя, сам учащийся и любящий научные занятия, – когда Митя повторяет их слова, когда он, подобно им, находит, что она поступает не по-людски, берется не за свое дело, – это горько, невыносимо горько слышать! Она надеялась быть его другом, товарищем, а он, и другие учащиеся мальчики, так же как он, смеются над ней, презирают ее! Неужели они правы? Неужели ей, в самом деле, вязать платки да стряпать кушанья, как мать, или вышивать на пяльцах и ждать богатого жениха, как Анюта, и не мечтать ни о чем другом! Но ведь это же тяжело, невыносимо тяжело…
И бедная девочка безутешно рыдала, припав головой к холодной стене чулана.
– Ольга! Оленька! Где ты? Куда она девалась?.. – раздался жалобный голос Пети. Оля знала, что если ее помощь нужна Пете, то все домашние примутся разыскивать ее и непременно откроют, ее убежище. Она предпочла сама выйти, наскоро отерев слезы.
– Ну, что тебе надо? Чего ты ноешь? – сердито обратилась она к Пете, беспомощно ходившему из комнаты в комнату, призывая ее.
– Да мне к завтрему задано начертить карту Африки, а я совсем не знаю, как и начать; покажи, миленькая, – Мите некогда…
– Вот выдумал! Разве это женское дело – чертить карты? – насмешливо вскричала Оля:– я пойду чулки штопать… Пусть тебя учат мужчины!
– Да отчего же, Олечка? Что это ты говоришь? – растерянно спрашивал Петя, никогда не слыхавший от сестры таких слов.
– А то же и говорю?! – продолжала сердиться Оля. – Теперь, пока я тебе нужна, ты ко мне приходишь за помощью, а подрастешь, подучишься немного-и будешь говорить, как другие, что не мое дело заниматься книгами, что я должна знать кухню да шитье и – ничего больше!
– Ах, Олечка! Да неужели я могу когда-нибудь это сказать! – вскричал Петя. – Как же не твое дело заниматься книгами, когда ты такая умная, все знаешь, понимаешь! Без твоей помощи я бы совсем не мог учиться.
Искренняя горячность, с какою мальчик высказал свои чувства, тронула Олю, успокоила ее раздражение.
– Смотри же, Петя, – серьезно, но уже ласково сказала она: – не забывай своих слов, и когда ты вырастешь большой, помни, что я тебе помогала, не мешай другим девочкам учиться!
– Вот выдумала! С чего же мне им мешать! – вскричал Петя, очень довольный тем, что сестра перестала сердиться и поможет ему готовить уроки. Для него, в сущности, было решительно все равно, кто больше учится – мальчики или девочки; даже если бы спросили его мнения, он, вероятно, сказал бы, что девочек следует отдавать в гимназии, а мальчикам предоставлять проводить дни в кухне или во дворе; это избавило бы его самого от ученья, которое до сих пор очень плохо давалось ему. Он просидел два года в первом классе, сидел уже другой год во втором, и до сих пор не мог приготовить ни одного урока без помощи брата или сестры. У Мити редко были время и охота заниматься с ним, так что эта обязанность лежала почти исключительно на Оле и только благодаря ей Петя мог кое-как держаться в гимназии.
Глава VII
Занимаясь с Петей, Оля как будто несколько утешилась и развлеклась, но на самом деле, она ни на минуту не забывала того, что так сильно огорчило ее. Впрочем, Митя, по-видимому вовсе не хотел, чтобы она забыла его слова, напротив он на другой день повторял то же самое уже без всякого раздражения и прибавил, что, по его мнению, Оля поступит гораздо разумнее, если отбросит все свои нелепые затеи и станет держать себя попроще. Она знает довольно много, – больше многих других девушек, – и может удовольствоваться этим. Оля была до глубины души оскорблена советом брата; она не могла спорить с ним, не могла доказать ему, что он неправ, – она просто возмущалась, чувствовала себя и оскорбленной, и несчастной. У нее явилось сомнение: все говорят одно и то же, все находят ее желания и стремления нелепыми; может быть, это и правда, может быть, она в самом деле поступает глупо, напрасно тратит время и силы?..
Два дня девочка не дотронулась ни до одной книги. Когда на третий день утром она, по обыкновению, пришла к Зейдлер, Леля была поражена ее бледностью, ее утомленным, унылым видом.
– Что это с тобой, Олечка, – с участием спрашивала она: – ты больна?
– Нет, милая, я совсем здорова, – отвечала Оля, и тут же рассказала подруге свое горе, свои сомнения.
– Вот-то глупости какие, – вскричала Леля: – твой брат! – извини, пожалуйста, просто дурак, и его товарищи не лучше… Очень стоит полагаться на их мнения! Ты послушай, что в газетах пишут: тетя читала вчера одной знакомой, – я слышала, – в Петербурге для женщин читают лекции такие же, как для мужчин, и потом их будут принимать в медицинскую академию, – знаешь, где готовятся в доктора. Значит, там вовсе не смеются над женщинами, которые хотят учиться, а совсем напротив. И как это весело – вдруг сделаться доктором!..
– Да правда ли это только, Леля? – недоверчиво спрашивала Ольга.
– Ну, вот! Разве в газетах станут писать неправду? Я нарочно припрятала те номера, где об этом пишут, чтобы показать тебе.
Подруги перечитали статьи, указанные Лелей, и все сомнения Оли исчезли. Боже мой, какое счастье! Здесь над ней смеются, а там, в этом умном, хорошем Петербурге, где живет так много добрых, образованных людей, над учащимися женщинами никто не смеется; напротив, им помогают, для них читают лекции, им позволяют делаться докторами! Быть доктором!.. Какая хорошая, полезная деятельность! Неужели и она когда-нибудь достигнет этого?.. Сердце девочки билось так сильно, что от волнения она ничего не могла говорить, только щеки ее горели и глаза блестели…
Леля болтала без умолку.
– Знаешь, – говорила она: я как все это услышала, так и решила, что нам с тобой непременно надо ехать в Петербург. Теперь нас, конечно, не пустят, – скажут, что мы еще девочки, ничего не понимаем, – но года через два, через три мы будем уже совсем взрослые девицы, и тогда никто нас не удержит. Мы вместе будем учиться, и вместе сделаемся докторами. Только я не знаю, какие болезни лучше лечить? Или, может быть, можно все? как ты думаешь?
– Ах, Леля, не все ли равно, – задумчиво заметила Ольга:– только бы это исполнилось, только бы поехать туда да начать учиться.
– Мы поедем, это уже наверно, – убежденным голосом отвечала Леля: – для меня, по крайней мере, это дело решенное…
С этой минуты у девочек явилась цель в жизни, явилась мечта, которая и утешала, и поддерживала их. Они решили до поры до времени никому не сообщать этой мечты, чтобы не встретить заранее противодействия ее исполнению. Они никому не говорили ни слова о том, что так сильно возбуждало их, но оставаясь наедине, в подробности обсуждали и то, каким путем добьются от старших согласия на свою поездку, и как устроятся в этом неведомом им Петербурге, и как распределят свои занятия, и как в далеком будущем заживут самостоятельною и полезною жизнью. Теперь уже они читали и учились не только потому, что их интересовало, не только потому, что им было обидно оставаться глупее своих сверстников мальчиков, но и потому, что эти занятия представляли им возможность устроить свою жизнь по своему и лучше, чем они видели вокруг себя.
– Надеюсь, что когда я буду знаменитым доктором, – говорила Леля: – от меня не потребуют, чтобы я целые часы выдумывала-какое платье да какая прическа мне к лицу, как кузина Мими; и меня не будут бранить за то, что я не довольно почтительна с княгиней Солнцевой и не довольно любезно отвечаю на разные глупости мосье Жака.
«А мне, – думала Оля: – не придется, как уверяют маменька и тетенька, выбирать одно из двух: или ждать помощи от братьев, или стараться найти себе богатого мужа. Я буду, так же как Митя и как другие мужчины, жить своим трудом, – полезным, хорошим трудом, а не милостями других».
Оживленная этою мыслью, этою надеждою, Оля уже равнодушно смотрела на то, как окружающие относятся к ее занятиям. Она стала учиться одна, без помощи Мити, изредка только обращаясь к нему с каким-нибудь вопросом и не смущаясь тем, что он давал свои ответы сухим, недовольным тоном и часто повторял: «полно тебе, Оля: ведь ты, право, уже довольно знаешь!»
Кроме того, она решила, что должна присадить за книги своих младших сестер. С маленьким Васей она уже начала немножко заниматься по просьбе матери, которая говорила, что умрет спокойно, если успеет пристроить в гимназию и младшего сына. О Глаше и Маше Марья Осиповна рассуждала так же, как и о старших дочерях: что для них ученье-лишняя роскошь; впрочем, она не мешала Оле заниматься с ними сколько и чем угодно.
– Пусть себе хоть за книжкою сидят, – рассуждала она:– все лучше, чем шуметь да платья рвать.
А Оля утешалась мыслью, что не одна она, а и сестры ее получат возможность жить тою хорошею жизнью, о какой она мечтала. Одно смущало девочку и часто заставляло ее проводить бессонные ночи: откуда возьмет она денег, чтобы ехать в Петербург и жить там? Леле хорошо говорить «это дело решенное», ее мать богата: если она согласится отпустить дочь, то, конечно, даст ей и все необходимые средства. А кто поможет ей? К кому может она обратиться с просьбою о помощи? Уж, конечно, не к бедной, постоянно нуждающейся матери, не к Анюте, не к тетке, которые наверно станут всеми силами мешать ей. Самой заработать? Но как, чем?.. Впрочем, ведь это еще не так скоро, – утешала себя девочка, – года через два, через три, а к тому времени, может быть, что-нибудь и случится совсем неожиданное. И вдруг это неожиданное действительно случилось. В один день, когда все семейство сидело за своим скромным обедом, почтальон принес на имя Марьи Осиповны письмо с черною печатью. Бедная женщина, привыкшая встречать в жизни больше горя, чем радостей, задрожала при виде этой печати и от волнения едва могла прочесть письмо. В письме ее извещали, что в Москве скончалась старая тетка покойного Александра Фомича и оставила ей по завещанию две тысячи рублей, прося ее употребить эти деньги с пользою для сирот ее милого племянника.
– Мы разбогатели!.. – У нас две тысячи!.. Ура! мы наследники!.. – кричали и волновались дети, когда Митя, взяв из дрожащих рук матери письмо, объяснил им, в чем дело.
Две тысячи-не Бог знает какие деньги; но для бедной семьи, часто не знавшей – хватит ли денег на покупку новой обуви, когда старая отказывалась служить, или новой одежды, когда прежняя становилась слишком короткой-это было целое богатство. Марья Осиповна и плакала, и смеялась, и крестилась; дети строили всевозможные воздушные замки, на осуществление которых понадобился бы капитал, по крайней мере, раз в пять больше полученного.
Марья Осиповна не спала всю ночь, раздумывая, как ей лучше исполнить волю доброй старушки, как разумнее употребить деньги-на пользу детей. – На следующей день она собрала по этому поводу целый семейный совет. На этом совете присутствовали: Илья Фомич, Лизавета Сергеевна, Филипп Семенович, Анюта и Митя. Младшим детям, не исключая и Оли, позволено было слушать рассуждения старших, но их мнений никто не спрашивал. По самом зрелом обсуждении вопроса, решено поступить так: часть денег, рублей 300–400, употребить на уплату разных мелких долгов, очень тревоживших Марью Осиповну, и на самые необходимые улучшения в меблировке и одежде семейства. Остальные деньги следовало беречь на случай какой-нибудь крайней надобности для кого-нибудь из детей.
– Ваша Ольга уже почти невеста, – заметила Елизавета Сергеевна:-хорошо, если вам можно будет дать ей хотя какое-нибудь приданое.
– Да вот и Васеньку надо будет в гимназию отдать, – сказала Марья Осиповна.
– Что ж, это дело доброе, – похвалил Илья Фомич: – дадите сыновьям образование, старших дочек замуж пристроите, так и можете спокойно жить: они вас да младших сестер не оставят.
– Я и для себя попрошу у маменьки часть этих денег, – вставил свое слово Митя: – я непременно хочу кончить курс в гимназии, а потом ехать в Петербург или в Москву, в университет.
– По-моему, это совершенно лишнее, – своим обычным решительным тоном заметил Филипп Семенович: – поучился в гимназии – и довольно!
Прочие родственники, – конечно, кроме Анюты, – думали иначе. Им казалось, что не следует закрывать молодому человеку путь к высшему образованию, особенно потому, что это высшее образование давало ему возможность в будущем приобретать лучшие средства к жизни.
– Он у меня такой умный, – говорила Марья Осиповна: – пусть себе учится: его время не уйдет, он всю семью поддержит.
Итак, вопрос о Мите был решен скоро и почти единогласно. Филипп Семенович не выразил своего согласия с общим мнением – он почел бы это унизительным для своего достоинства, – но он и не возражал.
– Слава Богу, – говорила Марья Осиповна, когда гости разошлись, – все у нас хорошо придумано: Митенькино желание исполнится, и Васюту с осени можно определить в гимназию, и для тебя, Олечка, отложу хоть сотенки четыре или сотен пять… Конечно, Анюточка у меня вышла замуж без приданого; ну, да ведь такого добродетельного человека как Филипп Семенович, поискать, а с деньгами все же легче будет пристроить…
Ольга так часто слышала и от матери, и от тетки, и от сестры разговоры о том, что ей необходимо «пристроиться», т. е. отыскать себе мужа, который дал бы ей возможность вести безбедную, праздную жизнь, что она уже перестала возмущаться этими разговорами. Она не стала возражать, не стала отказываться от своего приданого, – напротив, она крепко поцеловала мать и от души поблагодарила ее.
Марья Осиповна даже удивилась такому внезапному благоразумию дочки, и с радостью подумала, что она перестает дурачиться, начинает наконец понимать жизнь. А Оля радовалась вовсе не тому, о чем думала мать.
«Эти деньги отложены для меня, считаются моими, – рассуждала она: – значит, когда я скажу маменьке, что я хочу ехать в Петербург учиться, она мне их даст, и я поеду, поступлю в академию, я сделаюсь доктором… Какое счастье!»
Леля, конечно, узнала о неожиданном счастье подруги и вполне разделяла ее радость. Теперь уже никакие сомнения, никакие опасения не мешали девочкам мечтать, и в то же время приготовляться к той цели, какую они себе положили. Впрочем, по-правде сказать, они больше мечтали, чем приготовлялись. На серьезные, усидчивые занятия у обеих не хватало времени. Утром – Оля учила младших детей, особенно Васю, которого надобно было приготовлять к гимназии; вечером – она помогала Пете готовить уроки; днем – ей приходилось гладить, штопать и шить груды белья для всей семьи. Она могла взяться за книгу только поздно вечером, когда все уже улягутся спать. Почитает, попишет она час, полтора, и усталые руки беспомощно падают на колени, усталые глаза слипаются, усталая голова отказывается думать, понимать. Приходится гасить свечу, ложиться спать в надежде, что завтра будет лучше, что завтрашний день принесет больше сил, больше бодрости, а на завтра опять начинается то же, опять утомительная дневная работа, опять усталость, сонливость именно в те минуты, когда она менее всего желательна.
У Лели дело шло еще хуже. Ей исполнилось шестнадцать лет, ей сшили длинное платье и объявили, что теперь она должна держать себя как взрослая девица Учителя, кроме учителя музыки, перестали ходить к ней, англичанка гувернантка оставалась при ней только для практики в английском языке, и почти все время Леля проводила с матерью: принимала с ней вместе гостей, делала визиты, выезжала на балы и вечера. Нельзя сказать, чтобы эта жизнь казалась девочке неприятной. Совершенно напротив. В ней находили ум и оригинальность; благодаря изящным, искусно придуманным туалетам, она казалась хорошенькой, ее называли прелестной и это льстило ее тщеславию, ей приятно было, что мать обращается с ней как со взрослой, дает ей больше свободы, что гувернантки не читают ей постоянных нотаций насчет манер, и она беззаботно предавалась удовольствиям. Но вот на несколько дней наступало затишье, не предвиделось никаких особенных выездов, оставалось много свободного, незанятого времени. Приходила Оля. Опять начинались разговоры о хорошем будущем, вспоминались мечты, стремления… Леля набрасывалась на книги и, забывая все окружающее, начинала читать, учиться… Но, увы! недели пустой, праздной жизни уносили из головы ее половину тех знаний, какие ей урывками удалось приобрести; всякий раз нужно было повторять старое, очень медленно подвигаться вперед, а мозг, не привыкший к правильной постоянной работе, быстро утомлялся, являлась скука, уныние, а тут кстати подвертывалось какое-нибудь приглашение, из магазина приносили для примерки новый костюм и – книги отбрасывались в сторону, и девочка отдавалась жизни, которая не требовала ни трудов, ни усилий…
– Ах, Леля, – говорила иногда Ольга: – я просто в отчаянии: нам с тобой никогда не выучиться всему, что нужно! Я уже далеко отстала от Мити и теперь ни за что не могу с ним сравняться, а ты знаешь еще меньше меня!
– Это пустяки, – беззаботно отвечала Леля: – через год мы поедем в Петербург: там тебе не нужно будет работать на семью, а мне веселиться, мы засядем вместе за книги и скорешенько догоним твоего Митю.
Ольга сомнительно покачивала головой, вовсе не разделяя спокойной уверенности подруги!
Глава VIII
Митя блистательно кончил курс в гимназии и готовился к отъезду в Петербург. Марья Осиповна и гордилась своим умным сыном, и плакала при мысли о разлуке с ним, и старалась, по мере возможности, снабдить его всем необходимым. Она избегала весь город, выторговывая подешевле и получше полотна и вместе с Олей целых два месяца шила белье. Все родственники также старались чем-нибудь одарить будущего студента. Илья Фомич сделал ему новую пару платья; Лизавета Сергеевна подарила ему серебряные часы с цепочкой; Филипп Семенович отдал ему свою почти новую шубу. Всякий давал ему множество советов насчет жизни в шумной, многолюдной столице, но всякий притом искренно желал ему успеха, возлагал на него большие надежды.
– Вот подождите, говорили Марье Осиповне соседи:– кончит ваш Митенька университет, получит хорошее место в Петербурге, так и вас, пожалуй, со всей семьей туда перетащит…
– Ну уж, где нам, – отговаривалась Марья Осиповна: – зачем нам в Петербург ехать; хоть бы тут немножко помог, чтобы на старости лет мне покойнее прожить, и то бы хорошо… Да я на него надеюсь: он у меня всегда был добрым сыном.
И она нежно ласкала сына, и в то же время старалась в разных мелочах угождать ему: он уже был в ее глазах не мальчик, а будущая опора семьи, поддержка ее старости.
Митя знал, какие надежды возлагались на него, и был вполне уверен, что осуществит их. Его заветная мечта исполнялась: он ехал в Петербург, он поступал в университет, и он чувствовав себя счастливым, и это делало его добрее, мягче ко всем окружающим. Он без малейшего неудовольствия выслушивал советы и наставления родных и знакомых, ласкал мать, сулил детям петербургские гостинцы и относился к Оле без того высокомерия, которое возмущало ее. Видя, что брат опять, как в старые годы, дружески разговаривает с ней, что он охотнее передает ей свои предположения и планы, Оля решилась довериться ему. В один светлый летний вечер, оставшись с ним наедине, она рассказала ему свои мечты и в заключение стала со слезами на глазах упрашивать, чтобы он взял ее с собой в Петербург.
– Полно, Оля, да разве это мыслимо, – отвечал Митя:– я и сам буду там как в лесу: не знаю еще, как устроюсь, а вдруг – с тобой… Мы оба пропадем!
– Да отчего же, Митя? Я ни в чем не буду мешать тебе, напротив, – может быть, помогу.
– Ну, это сомнительно. Да и к чему же ты поедешь? Я, правда, слыхал, что есть женщины, которые учатся в медицинской академии; но я не думаю, чтобы из этого вышел какой-нибудь прок. И вообще, об этом деле надобно прежде все подробно разузнать.
– Я бы и разузнала.
– Это я могу сделать и без тебя. Подожди, я немного огляжусь в Петербурге; узнаю, каково там жить, чему и как учатся там женщины, – тогда и порассудим, можно ли тебе ехать, а то выдумала – теперь… Да тебя и маменька не отпустит…
– Ну, хорошо, я подожду, а ты мне все там в подробности разузнаешь?
– Отчего нет! Пожалуй…
Ольге пришлось удовольствоваться этим обещанием, но она и тому была рада. По крайней мере, брат не отнесся враждебно к ее плану; он даже, может быть, поможет ей осуществить его, уговорит мать, разузнает, как ей удобнее устроиться. Она подождет год; год ведь это немного. В год он, конечно, успеет и освоиться с петербургскою жизнью, и собрать все нужные для нее сведения…
И вот Митя уехал, напутствованный слезами, поцелуями, пожеланиями самого полного успеха…
«Как просто и легко устроился его отъезд! – думала Ольга, провожая глазами экипаж, который отвозил брата на ближайшую станцию железной дороги: – никто не находил, что он поступает безрассудно, никто не удерживал его, не мешал ему… Так ли будет со мной? Конечно, нет, – мысленно ответила она себе: – ведь он мужчина, а я – женщина…»
И, грустно опустив голову, вернулась она домой, к своим обычным домашним занятиям.
Рассчитывая, что подождать год недолго, Ольга и не предчувствовала, какой тяжелый год придется им пережить. Началось с того, что Марья Осиповна с первых дней осени схватила сильнейшую простуду. Долго крепилась она, не соглашалась лечь в постель, посоветоваться с доктором; но, наконец, ночью, с ней сделался сильный бред, и она потеряла сознание. Испуганная Ольга послала Петю к доктору, жившему по соседству. Доктор пришел, осмотрел внимательно больную и сомнительно покачал головой и прописал лекарство, от которого больной не стало нисколько лучше. Через несколько дней пришлось пригласить другого доктора, который жил далеко и брал за визиты очень дорого, но зато известен был своим искусством. Филипп Семенович находил, что это совершенно напрасные расходы, что кому суждено жить – тот останется жив, что никакой доктор не может спасти от смерти; но Ольга рассуждала иначе и не жалела денег для облегчения страданий матери. Наконец, благодаря искусству доктора и внимательному уходу детей, Марья Осиповна поправилась; у нее осталась только небольшая слабость. Доктор прописал ей избегать всякого утомления, вести как можно более покойную жизнь. Такого рода рецепты очень хороши и полезны для людей богатых; но каким образом исполнить их человеку бедному, который живет только своими трудами? Об этом доктора обыкновенно ничего не говорят, и бедные люди принимают их предписания за пустые слова, на которые не стоит обращать серьезного внимания. Марье Осиповне, вместо отдыха после болезни, предстояли новые, неожиданные труды. Едва она поправилась настолько, что могла опять приняться за свое вязанье шерстяных платков и шарфов, как Глаша заболела сильнейшею скарлатиной. В маленькой квартире нечего было и думать отделять больного ребенка от здоровых. Лизавета Сергеевна боялась заразительных болезней, и на просьбу Марьи Осиповны – приютить на время Васю и Машу, – отвечала решительным отказом; Анюта дрожала за своих двух маленьких сынков, и не решалась даже присылать узнавать о здоровье сестры. Не успела Глаша совершенно оправиться от болезни, как слегла Ольга, за ней Вася и Маша и, наконец, уже в начале весны, Петя. У него болезнь приняла такой опасный оборот, что несколько дней он был при смерти; затем началось медленное выздоравливание. Бедный мальчик страшно исхудал и до того ослабел, что без помощи матери или сестры не мог подниматься с постели. А тут пришла новая беда. Он уже два года сидел в третьем классе гимназии – он учился вообще плохо – и теперь не в состоянии был держать переходного экзамена в четвертый класс, а потому, по правилам заведения, должен был быть исключен из гимназии. Узнав об этом, Марья Осиповна побежала к директору гимназии и со слезами, чуть не на коленях, умоляла его не губить мальчика, не лишать его единственной возможности получить образование. Директор сжалился над ней и, в виду тяжелой болезни, вынесенной мальчиком, позволил ему держать переходный экзамен осенью. «Но предупреждаю вас, – прибавил он: – больше этого я ничего не могу сделать для вашего сына; он сидит по два года в каждом классе и вообще считается у нас одним из дурных учеников, и если он не выдержит экзамен в августе, мы должны будем исключить его».
Петя выслушал весть о своей судьбе с полным унынием.
– Где же мне приготовиться за лето, – говорил он: – не стоит и пробовать…
– Полно, Петя, – ободряла его Ольга: – ты теперь еще слаб, нездоров, а вот недели через две совсем поправишься, тогда засядь за книги, да и постарайся… Как не приготовиться! Ведь тебе все старое повторять, что ты учил еще в прошлом году.
– Я все позабыл! – безнадежно повторил мальчик.
– Я тебе помогу; вместе будем стараться, – утешала его сестра.
Известие о несчастии, грозившем Пете, огорчило и рассердило всех родственников. Особенно волновалась Лизавета Сергеевна.
– Это ни на что не похоже, – говорила она: – шесть лет платили за мальчика, и вдруг теперь его исключают! Значит, наши деньги все равно, что в огонь брошены? Это вы виноваты, Марья Осиповна, как можно не заставить мальчика учиться!
– Да он, право, учился, – со слезами оправдывалась бедная Марья Осиповна: – что делать, если это ученье трудно ему дается…
– Ну, надобно было помочь ему, взять учителя, что ли… Не надо было доводить до такого стыда, что мальчишку выгоняют из заведения…
– В самом деле, не взять ли уж Петеньке учителя, – печалилась Марья Осиповна: – дорого только это стоит, и без того за нынешнюю зиму страх сколько денег вышло, – да что уж тут жалеть денег дело-то важное!
Ольга пробовала возражать, доказывать, что она сама может помочь брату, но мать не вполне доверяла ее знаниям, а Филипп Семенович объявил, что Оля – самонадеянная девочка, и Марье Осиповне пришлось, с горем и слезами, взять на наем учителей еще сотню рублей из отложенных ею на черный день.
Петя прилежно принялся за занятия. Он был уже в таких летах, что понимал, какое несчастие подвергнуться исключению из заведения, и готов был отдать полжизни, чтобы только избегнуть этого стыда. Бедный мальчик никогда не ленился, он всегда готов был усердно приготовлять свои уроки, но память у него была слабая, соображение медленное. Ему приходилось час, два долбить то, что Митя и Оля затверживали в четверть часа; он никогда не мог скоро придумать ответ на вопрос учителя, а у учителей не хватало времени и терпения ждать, пока он сообразит, в чем дело, и они ставили ему дурные отметки. После болезни ученье давалось ему еще труднее, чем прежде. При всяком сильном умственном напряжении он начинал чувствовать боль в висках, тяжесть в голове. Но, несмотря на то, он продолжал заниматься. Часто мысли его путались, слова учебника не укладывались в мозгу, он горькими слезами плакал над книгой, проклиная и свое тупоумие, и трудность ученья… Ольга видела, как мучится брат, и всеми силами старалась помочь ему, но она не могла дать ему ни своих хороших способностей, ни своей энергии к преодолению трудностей. Несмотря на ее помощь, бедный мальчик мучился, плакал и очень, очень туго подвигался вперед.
Наконец, настал август. Петя пошел на экзамен бледный, унылый, почти без надежды на успех… Первый экзамен предстоял ему из русского языка, – единственного предмета, по которому он учился хорошо. Он начал отвечать весьма недурно, но вдруг учитель предложил ему вопрос, которого он не ожидал. «Я этого не знаю… кончено… я не выдержал!» мелькнуло в голове мальчика. Он смутился, запутался и, в конце концов, получил едва удовлетворительную отметку. На втором экзамене дело пошло еще хуже, а после третьего инспектор прямо объявил ему, чтобы он не трудился приходить больше, что учителя находят его совсем неприготовленным и никак не согласятся перевести в четвертый класс.
«Но согласятся перевести – значит, он не может больше оставаться в гимназии; значит, он исключен!»
Когда Петя вернулся домой, мать и сестра сразу поняли по выражению его лица, что все кончено. Марья Осиповна залилась горючими слезами и начала причитать, какая она несчастная мать и как ей теперь стыдно будет взглянуть в глаза родным и знакомым. Ольга видела, что Пете не под силу выносить упреки матери; она увела его в другую комнату и там старалась, как могла, утешить и ободрить его. Несчастный мальчик совсем упал духом. «Я пропащий человек, совсем пропащий!» твердил он на все утешения сестры и неподвижно сидел на месте, беспомощно опустив руки, бессмысленно глядя перед собой.
Первые дни и Ольга, и Марья Осиповна боялись, что он заболеет или сойдет с ума; но время, смягчающее всякое горе, помогло и Пете перенести свое несчастие. Мало-помалу, родным и знакомым надоело попрекать его леностью и соболезновать о его несчастном положении, да и сам он стал легче относиться к своей беде. После усиленных, напряженных трудов ему даже приятно было ничего не делать, отдохнуть. Месяца два никто не мешал ему в этом отдыхе, но затем Марья Осиповна начала все чаще и чаще обращаться к нему с вопросами:







