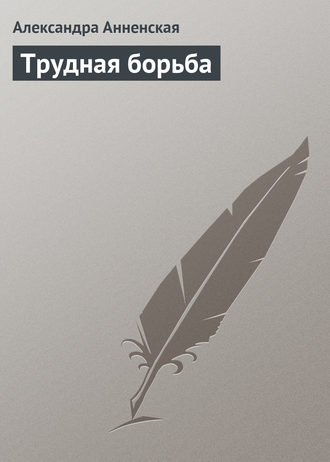
Александра Никитична Анненская
Трудная борьба
Глава V
Через несколько дней после свадебного пира в квартиру Потаниных вошла незнакомая горничная и передала Оле клочек бумаги, на котором карандашом, видимо второпях, было написано:
«Милая Оленька! Сегодня в два часа мы будем у ваших. Пожалуйста, приходите непременно. Никому не говорите, что я вам пишу.
Е. 3.»
Оля про себя усмехнулась тайне, которую ее новая подруга делала из такого пустяка, и без труда выпросила у матери позволение сходить к Анюте. Она пришла к сестре несколько раньше назначенного срока и застала ее в сильных попыхах. Анюта знала о том, что генеральша намерена посетить ее и, как молодая, еще неопытная хозяйка, волновалась, что не сумеет достаточно хорошо принять такую важную и взыскательную гостью.
– Да из-за чего ты так суетишься, Анюта? – спросила Оля, видя, как сестра то тревожно оглядывала комнаты, переставляя ту или другую мебель, то выбегала в кухню отдавать хлопотливые приказания прислуге, то подбегала к зеркалу и поправляла что-нибудь в своем довольно нарядном костюме. – Что же за беда, если этой генеральше что-нибудь у тебя не понравится? Разве тебе так приятно ее знакомство?
– Ах, Оля, выдумала ты: приятно! Да по мне хоть бы она никогда не приезжала! Но, видишь ли, Филипп Семенович очень дорожит ее знакомством. Он велел мне как можно лучше принять ее.
Гости, наконец, приехали. Генеральша держала себя покровительственно любезно относительно обеих сестер. Впрочем, она обратила мало внимания на Олю и все время разговаривала с одной Анютой, поспешившей усадить ее в гостиной, обитой синей шелковой материей. Леля была в шляпке с цветами, в светлых перчатках и при матери держала себя так чинно, была так молчалива и безукоризненно сдержанна, что Оля едва узнала ее. Наконец, наскучив сидеть подле этой накрахмаленной барышни, называвшей ее «mademoiselle» и как-то сквозь зубы цедившей все слова, она предложила ей походить по столовой. Едва дверь гостиной затворилась за девочками, как Леля переродилась и опять явилась такою, какою была на свободе, – веселой, болтливой, откровенной. Целый час провели девочки в самых непринужденных разговорах и остались довольны друг другом еще больше, чем при первом свидании.
– Как жалко, что нам нельзя почаще видеться! – говорила Леля, обнимая Олю и целуя ее.
– Да, очень жаль, – вздохнула Оля.
– Надо будет что-нибудь придумать… Уж я придумаю! – вскричала Леля.
В эту минуту мать позвала ее, чтобы уезжать, и девочки распрощались, не зная, когда опять увидятся.
Дня через два после этого, к великому удивлению Марьи Осиповны, в переднюю ее вошел высокий ливрейный лакей и, передавая ей письмецо, запечатанное в розовый надушенный конвертик, важным голосом произнес: «Барышне Ольге Александровне!»
Оля догадывалась, кем прислан надушенный конвертик, и не без волнения распечатала его. Она не ошиблась: письмо было от Лели, написано довольно красивым почерком, видимо очень старательно. Вот его содержание:
«Милая Оленька! Узнав от меня, что вы не учитесь по-французски, хотя очень желали бы говорить на этом языке, маменька предлагает помочь вам в исполнении этого желания, которое она находит весьма похвальным. У нас в доме живет француженка, моя бывшая гувернантка, которая, по просьбе маменьки, согласится давать вам уроки французского языка, если вы станете приходить к нам раза два-три в неделю. Если желаете, уроки могут начаться с завтрашнего же дня, часов в 10 утра.
Остаюсь готовая к услугам
Елена Зейдлер».
На конце страницы было нацарапано: «Милая, пожалуйста, приходите!»
Оля улыбнулась этой приписке: она поняла, что Леля нарочно изобрела для нее эти уроки, чтобы найти предлог часто видаться с ней, и задумалась. Конечно, ей и самой приятно было поддерживать знакомство с милой, веселой Лелей, да и жалко было упустить случай научиться французскому языку; но ходить в дом к важной, чопорной генеральше, пользоваться ее милостями, – нет, это неприятно…
– Что же ты так сидишь, Оля? – прервала ее думы Марья Осиповна: ведь ждут ответа! Кто это тебе пишет? Что такое? Покажи!
Оля протянула матери письмо.
– Вот уж истинное счастье тебе! – вскричала Марья Осиповна, с некоторым благоговением прочитав Лелино послание. – Этакая добрая душа эта генеральша! Анюточку не оставляет советами да покровительством и тебе такое благодеяние оказать хочет…
Оля попробовала возразить, намекнула на то, что не желает этого благодеяния, но Марья Осиповна ни о чем подобном и слышать не хотела.
– Чего это ты чудишь! – раздражительно заметила она: – то непременно хочешь учиться, по ночам сидишь за братниными книгами, а тут предлагают учить тебя тому, чему учат всех барышень, так ты – «не хочу»… Что это за капризы!
Оле пришлось отказаться от «каприза» и отвечать Леле благодарственным письмом с обещанием придти непременно завтра.
На следующее утро девочка, по обыкновению, помогла матери в разных мелких хозяйственных работах и затем неохотно, медленным шагом направилась к дому генеральши Зейдлер. Хотя идти пришлось довольно далеко-генеральша жила не в предместьи, как Потанины, а на одной из главных улиц города – и хотя Оля не торопилась, но ее утро начиналось так рано, что она подошла к генеральскому дому раньше, чем на церковных часах пробило десять.
В передней ее встретила Леля в утренней блузе, с папильотками в волосах.
– Милая моя, вы на меня не сердитесь, что я так устроила дело? – говорила она, обнимая Олю. – Я нарочно назначила так рано, 10 часов, пока маменька еще спит, чтобы вам не так было страшно. Mademoiselle Emilie также еще не одета: мы можем с полчасика свободно поболтать у меня в комнате.
Она помогала, или, лучше сказать, мешала Оле освобождаться от пальто и шляпки и тащила ее за собой в свою собственную комнату. Эта комната, с большим трюмо, в котором Оля сразу увидела всю себя с ног до головы, с изящно украшенным туалетом, заставленным множеством баночек и скляночек, с мягкою, спокойною мебелью и хорошеньким пианино в углу, смутила девочку, привыкшую к скудной обстановке своей квартиры.
– Как у вас здесь хорошо! – говорила она, оглядываясь кругом.
– В самом деле! Вам нравится? – немножко удивилась Леля. – А я так привыкла ко всему этому, что не замечаю, хорошо здесь, или худо. Я здесь занимаюсь, а сплю в комнате рядом, вместе с мисс Розой. У Mademoiselle Emilie особенная комната, – она там и будет вас учить. Она прежде была моей гувернанткой, а теперь осталась компаньонкой у maman и, кроме того, дает мне уроки французского языка.
Болтовня Лели дала время Оле оправиться; она пригляделась к необычной обстановке и мало-помалу стала по прежнему непринужденно разговаривать с своей новой подругой.
– Вы здесь занимаетесь? А где же ваши книги? Их совсем не видно, – заметила она.
– Ах, вы ученая, – смеясь, вскричала Леля: – у вас, я думаю, целый стол завален книгами да бумагами! А я, видите ли, страшно занята целый день, а книг у меня всего четыре-пять, вон на полочке над столиком.
– Чем же это вы так страшно заняты?
– Вы мне не верите? Постойте, я вам расскажу. Встаю я довольно рано, в десятом часу; с половины одиннадцатого до половины первого играю на фортепьяно, потом завтракаю, потом одеваюсь и, в хорошую погоду, еду с maman кататься; потом ко мне приходит раз в неделю танцмейстер, два раза учительница пения, раз учитель русского языка и арифметики, два раза немка-учительница; в пять часов я одеваюсь к обеду, а после обеда, когда у нас нет гостей и мы сами никуда не едем, я занимаюсь с англичанкой и с француженкой. Видите, весь день наполнен. Я уверена, что у вас больше свободного времени, чем у меня.
– Не думаю, – улыбаясь, возразила Оля, и в подробности рассказала свое времяпрепровождение.
Во время разговора девочек в комнату несколько раз входила пожилая дама с сухим, строгим лицом, обрамленным седыми локонами. Она всякий раз делала Леле какое-нибудь замечание на английском языке, девочка отвечала ей односложно, и затем – то выпрямлялась, то переставала вертеть руками, то переменяла положение ног. Оля поняла, что строгая надзирательница исправляет погрешности в манерах своей воспитанницы, и ею опять овладело смущение, ей страшно стало каким-нибудь неловким движением провиниться в глазах людей, обращающих так много внимания на внешность. В эту минуту в комнату вошла мадемуазель Емили, довольно молодая француженка, одетая очень щеголевато и на вид далеко не такая строгая, как англичанка. Хотя Оля ни слова не понимала по-французски, она заговорила с ней на этом языке, очень любезно извинилась, что заставила ее так долго ждать, и попросила ее к себе в комнату чтобы начать урок. Оля постаралась отнестись к этому уроку с самым полным вниманием: знание латинского языка значительно помогало ей запоминать французские слова и формы выражения, так что учительница осталась очень довольна ею и на прощанье наговорила ей кучу любезностей, которых девочка не понимала. Леля выскочила из-за фортепиано попрощаться с ней и, крепко целуя ее, прошептала:
– Смотрите, приходите после завтра еще раньше, я нарочно встану в девять часов и буду вас ждать.
Оля обещала. Уходя из дома генеральши, она чувствовала себя гораздо добрее и веселее, чем входя в него.
С этих пор она приходила по три раза в неделю брать уроки французского языка. Уроки эти сами по себе мало привлекали ее: мадемуазель Емили заставляла ее переводить и заучивать наизусть множество бессвязных фраз, редко умела объяснить, почему в одном случае употреблялся один способ выражения, в другом – другой; кроме того, она смущала ее, без умолку болтая с ней по-французски и предлагая ей на этом языке вопросы, которых девочка не могла понимать. Гораздо приятнее для Оли были те получасы и часы, которые она проводила в комнате Лели. Часто она заставала подругу еще в постели, или только что начавшую одеваться, и с удивлением видела, как для такого простого дела, как обуванье и надеванье блузы, Леле непременно требовалась не только помощь горничной, но еще присутствие надзирательницы, замечавшей, где нужно подтянуть чулок, где обдернуть юбку, где расправить кружевца. Чаще, впрочем, к ее приходу Леля была уже в утреннем костюме, и с нетерпением ждала ее. Выслушав от нее все подробности ее жизни и самые обстоятельные описания всех окружавших ее лиц, Оля, с своей стороны, должна была как можно подробнее описать ей и своих домашних, и своих знакомых, и свой образ жизни. Особенно интересовали Лелю ее занятия. Она заставила ее принести латинскую книгу, прочесть и перевести из нее целый отрывок, опять подивилась ее учености, но нашла, что занятие латынью не интересно, что этот язык хуже французского. Зато, когда Оля, по ее просьбе, объяснила ей, что такое физика, когда она на примерах показала ей, какие явления становятся понятными благодаря этой науке, Леля пришла в восторг.
– Этому я непременно должна учиться! – вскричала она. – Милая, голубушка, я дам вам денег, купите мне книгу, где все это написано, я буду читать ее, пока не заучу всю наизусть.
Оля знала только тот учебник физики, по которому учились гимназисты, и купила его для подруги. Леля с радостью схватила ее и в тот же день, урвав несколько свободных минут, пока горничная расчесывала ей локоны, принялась прилежно читать его. Но, ах! с первых же страниц ее ждало горькое разочарование! Учебник составлен был для гимназистов, уже знакомых и с алгеброй, и с геометрией, а бедная девочка и арифметике-то училась с грехом пополам. Со слезами на глазах жаловалась она на следующий день Оле на свою неудачу, и Оля объяснила ей, что до начала занятий физикой необходимо ознакомиться с математикой.
– Ну, хорошо, – вскричала Леля, – так я буду учиться математике: сегодня же попрошу маменьку нанять мне учителя!
Не откладывая дела в долгий ящик, девочка в тот же день за завтраком высказала матери свою просьбу.
– Учиться математике, физике? – удивилась генеральша. – Это что за выдумка? Кто это тебя надоумил?
– Оля Потанина учится этому, маменька, она мне рассказывала: это очень интересно.
– Глупенькая девочка, – с сострадательной усмешкой заметила генеральша:-как ты легко поддаешься чужому влиянию! Твоя Оля – девушка бедная, которой придется собственными трудами зарабатывать себе хлеб, оттого она и должна учиться, а тебе на что же это?
– Да так просто, maman, интересно знать.
– А ты воображаешь, это знание легко дается? Взял книжку, прочел – да все и узнал? Нет, друг мой, чтобы научиться тому, чему ты хочешь, надо долго сидеть над книгами. А от этого лицо бледнеет, глаза краснеют, спина сгибается, на лбу делаются морщины, не хватает времени заняться своим туалетом, приобрести приятные таланты, и женщина перестает нравиться. Возьми для примера твою же Оленьку. Я не спорю, она, может быть, хорошая девочка. Но какие у нее угловатые, неграциозные манеры, как к ней не идет ее прическа! Никогда не придумает она, чем украсить хоть немножко свой простенький костюм, – ни галстучка, ни ленточки! Опять-таки скажу: для нее, как для девушки бедной, это ничего, но я бы просто с ума сошла, если бы ты была на нее похожа! Нет, моя милая, слушайся меня, учись тому, чему я тебя учу, а остальное предоставим мужчинам да несчастным гувернанткам: поверь, так ты будешь гораздо счастливее!
Леля не привыкла возражать матери, не привыкла рядом с ее мнением защищать свое собственное. Она опустила голову и замолчала, стараясь скрыть слезы, навертывавшиеся на глаза ее, но, между тем, объяснения матери не только не удовлетворили ее, а напротив, вызвали в душе ее смутно неприятные чувства, возбудили в голове ее множество неотвязных вопросов.
«Учиться, приобретать знание об интересующих предметах могут только бедные девушки, но ведь бедным не на что нанять учителей, не на что купить книг, им даже и времени нет: они, как Оля, с ранних лет начинают работать. Какие же женщины будут учиться? Предоставить это мужчинам? Но с какой же стати? С какой стати они будут понимать все, что делается кругом, а я должна только нравиться? Да и кому нравиться? Вот я, в блузе и в папильотках, нравлюсь Оле и она мне нравится, и по моему, все в ней мило: и прическа, и темненькое платьице – все гораздо милее, чем у кузины Жюли, которую мама всегда ставит мне в пример. От книг лицо побледнеет, делаются морщины? А отчего же княжна такая бледная, и у нее такие морщины около глаз: она ведь ничего не читает, кроме модного журнала? Надо приобретать приятные таланты? Хорошо, кому они приятны, а когда я терпеть не могу музыки, и к пению у меня нет никакой способности… Заставляют меня играть и петь при гостях, но, наверно, это никому не доставляет удовольствия, – все слушают только от скуки… И ради этого я никогда не буду знать того, что знают другие, что знает Оля! Она говорит, что стала учиться, чтобы понимать разговоры Мити и его товарищей, чтобы они не считали ее глупее себя. Значит, меня они всегда будут считать глупой? Значит, я буду нравиться только тем, кому нравятся глупые?..»
Вот какие мысли, какие вопросы засели в кудрявую головку Лели и не давали ей покоя. Она не смела откровенно высказать матери все свои сомнения, не смела повторить просьбу, на которую раз получила отказ, а между тем покориться в этом, как она покорялась во многом другом, казалось ей слишком тяжело. Она решила высказать свое недоумение Оле, просить ее совета.
– Странно, – с горькой усмешкой заметила Оля: – тебе нельзя учиться потому, что ты богата, мне – потому, что я бедна.
– Но ведь ты же учишься, несмотря на свою бедность! – с нетерпением вскричала Леля. – Не могу ли же и я учиться, несмотря на свое богатство?
– Попробуй, я охотно помогу тебе.
Девочки условились, что Оля купит Леле все необходимые книги и каждый раз, приходя по утрам, станет объяснять ей непонятное в этих книгах, а Леля в течение дня будет читать что нужно, заучивать наизусть, по возможности проделывать разные письменные упражнения.
С этих пор утренние свидания девочек проходили не в разговорах, а в серьезных занятиях. Англичанка-гувернантка сначала несколько встревожилась этой переменой, боясь, чтобы «эта бедная мещанка», – как в доме генеральши называли Олю, – не сообщила бы чего-нибудь вредного «барышне». Чтобы успокоить ее, Леля должна была объяснить ей содержание книг и пообещать, что чтение их не помешает ни ее урокам музыки, ни другим занятиям. И действительно, девочка ухитрялась учиться почти незаметно для окружающих: она решала геометрические задачи, пока ей причесывали голову, на прогулке или за обедом мысленно повторяла Олины объяснения, ложась спать, клала книгу под подушку и читала или поздно вечером, когда надзирательница уже сладко похрапывала, или утром, проснувшись пораньше. Способности у нее были необыкновенно богатые. Оля не могла надивиться, как легко она схватывает и быстро запоминает то, что не только ей самой, но даже Мите давалось с большими трудами, с большими усилиями. Правда, иногда, от непривычки к напряженной умственной работе, она скоро уставала и еще чаще скучала занятиями, хотела перескочить через какой-нибудь отдел, казавшийся незанимательным, и скорее дойти до интересного, так что Оле, как учительнице, приходилось насильно заставлять ее не забегать вперед.
– Нет, Леля, – серьезным голосом говорила она: – так я не хочу заниматься. Учи все по порядку, иначе выйдет путаница. О том, что пойдет дальше, я теперь не скажу тебе ни слова: если ты не хочешь говорить о сегодняшнем уроке, так закроем книгу – и кончено.
– Господи, какая строгая! – хохотала Леля, обнимая подругу: – поступай ко мне в гувернантки вместо мисс Розы: ты ее вылитый портрет! Ну, извольте объяснять, сударыня – я с почтением слушаю вас.
Она смеялась, делала гримасы, а в конце концов все-таки подчинялась влиянию Оли и с удвоенным старанием, «чтобы поскорей избавиться», проходила неинтересный отдел.
Бывали, впрочем, дни, когда девочки оставались не совсем довольны друг другом: это случалось обыкновенно после того, как Леле приходилось проводить несколько вечеров в гостях или в театре. Заснувши поздно, она вставала на другой день утром заспанная, ленивая, капризная. Оля сердилась на ее невнимательность, ее зевоту и потягиванья. Леля была не в расположении духа выносить замечания подруги и говорила ей колкости. Дело доходило до ссоры, которая, впрочем, не была продолжительна и по большей части кончалась слезами обеих: Леля плакала о том, что она глупа, ничего не понимает, что Оля ее презирает; Оля плакала о том, что рассердилась на бедняжечку, которая, конечно, не может заниматься, когда ей не дают спать по ночам. Иногда размолвки выходили и другого рода: случалось, что какой-нибудь выезд, какой-нибудь особенный наряд пленяли Лелю до того, что она несколько дней сряду не могла думать ни о чем другом, и на вопросы Оли, что ей объяснить из геометрии, отвечала: «это все пустяки, ты лучше меня послушай»… и начинала бесконечные описания какого-нибудь пикника, детского маскарада или необыкновенно интересной театральной пьесы. Леля с увлечением рассказывала, сколько было экипажей, кто из знакомых с кем сидел, кто ехал впереди, у кого какого цвета были лошади; говоря о маскараде, она не пропускала ни одной подробности в костюме своих знакомых и в своем собственном; передавая содержание театральной пьесы, она подражала актерам, старалась говорить их голосом, повторять их жесты. Оле надоедало слушать описание удовольствий, в которых сама она не могла принимать участия, да и боялась она, что Леля слишком увлечется ими, слишком отстанет от серьезных занятий. Она высказывала свое мнение подруге, та сердилась, находила, что она недобрая, не сочувствует ее радостям, и дулась несколько минут; потом, быстро забыв обиду, снова принималась за свои рассказы. Оля слушала их нахмурившись, и в душе решала, что перестанет ходить к Леле, если это будет продолжаться; но вот – проходило несколько дней, Лелино увлечение исчезало, она опять хваталась за книги и опять приводила молоденькую учительницу в восторг своею сообразительностью и отличною памятью.
– Господи! Леля, – часто говорила Оля:-какие у тебя способности! Что бы из тебя вышло, если бы ты родилась мальчиком, или если бы тебя учили, как учат мальчиков.
Леля вздыхала и задумывалась.
Глава VI
«Ну, слава Богу, кончила!», со вздохом облегчения проговорила Оля, откладывая в сторону целую кучу детских чулочек, которые она только что перештопала. Теперь она уже не бросала свою работу под стулья и столы, не дулась и не ворчала, принимаясь за шитье или вязанье; она стала старше, умнее; она понимала, что мать не может одна трудиться для такой большой семьи, и безропотно брала на себя часть домашних работ. Правда, работы эти по-прежнему казались ей скучными и неприятными; она от души радовалась, когда могла избавиться от них и взяться за другие занятия, которые все более и более привлекали ее. На этот раз, покончив штопанье, она плотнее притворила дверь в спальню, где шумели младшие дети, и поспешно схватила книгу, карандаш и тетрадь. К завтрему Мите заданы геометрические задачи, вечером придет Анюта, и ей не удастся решить их, – надобно сделать это теперь же, поскорей. Она усердно принялась за работу. Первые две задачи были легки, и она быстро справилась с ними; но зато третья оказалась очень сложною. Напрасно Оля несколько раз внимательно перечитывала ее, напрасно проглядывала она учебник геометрии, надеясь найти в нем указание, как приняться за дело, напрасно перепробовала она несколько способов решения – дело не ладилось, вопрос все оставался запутанным и неясным. Девочке было досадно, но в то же время самая трудность работы усиливала для нее интерес. Она так погрузилась в соображения и выкладки, что ни на что не обращала, внимания. Вдруг над самым ее ухом раздался голос матери:
– А я, знаешь, Олечка, – говорила Марья Осиповна, опускаясь на стул подле дочери: сейчас иду я домой, а около самых наших ворот встречаю Анну Степановну Дудкину (Оле пришлось отложить карандаш и слушать мать); она мне говорит, – продолжала Марья Осиповна:-что вы, говорит, дров купили? Я говорю: нет, вот собираюсь, да дороги очень и плохи. А она говорит: знаете, к Матрене Ивановне Кузьминой мужик из деревни возит по 2 р. сажень, хорошие дрова, сухие, – она и мне у того мужика заказала 3 сажени, славные дрова; попросите ее, – может она и для вас это устроит. Надо, Олечка, и вправду сходить к Матрене Ивановне: ведь эдакая благодать-по 2 р. А я намедни 3 заплатила, да за дрянь какую… Устала я – страсть как: ведь шутка – туда да назад верст шесть прошла, а надо скорей сходить… Сходи-ка ты да попроси Матрену Ивановну.
– Хорошо, маменька, я схожу; только ведь это не очень спешно, можно часок подождать: я занимаюсь, мне надо кончить.
– Чем же это ты занимаешься? Книжками-то своими? Ах, Олечка, какая в тебе все еще дурь сидит! Тут дело важное, хозяйственное: ведь, сама подумай, холода начинаются, а нам – как хорошо подешевле дров закупить, а ты говоришь – неспешно… Ну, как мы этакий случай упустим! Уж если ты не хочешь, я сама пойду… Как-нибудь дотащусь…
Оля видела, что мать бледна и утомлена; она понимала, что закупка хороших дров по дешевой цене – действительно дело важное в их бедном хозяйстве, и, со вздохом отложив в сторону геометрию, пошла к Матрене Ивановне. Идти пришлось довольно далеко, по нескольким кривым улицам и узким переулкам. Тонкая ватная шубка плохо защищала девочку от резкого ветра; ноги ее вязли в снегу, лежавшем сугробами среди улицы; руки ее, не знавшие перчаток, посинели от холода, но она не обращала на это внимания: в голове ее неотступно вертелась задача из геометрии, ее преследовал вопрос-как найти не дававшееся ей решение? Поглощенная этою мыслью, она дважды прошла мимо дома Матрены Ивановны, прежде чем опомнилась и вошла в калитку. С трудом удалось ей вспомнить, зачем она собственно послана, с трудом оторвала она свои мысли от занимавшей ее задачи, чтобы слушать, что говорила словоохотливая Матрена Ивановна, и отвечать ей впопад. Переговоры о дровах были окончены очень скоро и успешно, но затем Матрена Ивановна начала подробно рассказывать историю своего знакомства с мужиком, продававшим их, и тут уже Ольга не могла совладать со своим вниманием: она смотрела на говорившую, не слушая и не понимая ни слова из ее рассказа, и вдруг, в ту минуту, когда Матрена Ивановна дошла до конца его и, добродушно глядя на свою собеседницу, заметила в виде нравоучения: «так-то, милая моя, и выходит, что доброе дело никогда не пропадает», – в голове Оли в это время совершенно ясно и отчетливо представился новый, удивительно простой способ решения мучившей ее задачи. Девочка быстро вскочила с места, наскоро распрощалась с Матреной Ивановной, собиравшейся начать новую историю, и почти бегом пустилась домой.
«Неужели выйдет верно? – сомневалась она. – Казалось так трудно, а выходит совсем просто!»
Услыша, что мать возится в кухне, она незаметно пробежала в комнату и, не снимая с головы теплой шапочки, принялась за задачу. Действительно, способ, так неожиданно пришедший ей в голову, оказался верным; в несколько минут трудная задача была разрешена вполне удовлетворительно. После этого девочка могла спокойно говорить с матерью о дровах и терпеливо зашивать дыру, которою маленький Вася украсил в ее отсутствие свои новые панталоны.
Сейчас после обеда Марья Осиповна засуетилась.
– Надобно все хорошенько прибрать да одеться почище, – заметила она детям: – Анюточка приедет сейчас; может быть и с мужем.
– Ну, маменька, мне некогда заниматься с гостями, – отвечал Митя: – вон идет мой товарищ, Комаров, мы вместе будем готовить уроки.
Уроки сыновей были для Марьи Осиповны делом священным, и потому она ничего не возражала, когда мальчики ушли в маленькую Митину комнату и засели за книги. Оля начала причесывать свои вечно трепавшиеся волосы, но это не мешало ей прислушиваться к тому, о чем говорили гимназисты. Оказалось, что та задача, которая затрудняла ее, не давалась и им. Они совещались, как разрешить ее, придумывали разные способы и – все не могли напасть на верный.
«Надо помочь им!» – сказала себе Оля, подколола кое-как непослушные косы и пошла к мальчикам.
– Я решила сегодня эту задачу! – объявила она им, и ясно, толково изложила свой способ решения.
– Да, это так, совершенно верно, – согласился Митя, внимательно выслушав сестру, а Комаров так даже подпрыгнул от радости, что не придется больше думать над трудным уроком.
После математики гимназисты начали заниматься другими уроками, заданными к следующему дню. Оля взяла свои тетради и уселась вместе с ними; но не успела она написать и десяти строк латинского перевода, как из соседней комнаты раздался голос Марьи Осиповны: «Оленька! Ольга! Ох, Господи, да куда же это она девалась?»
Девочка бросила перо и с неудовольствием пошла на зов матери. Оказалось, что Анюта уже приехала и осведомлялась о сестре.
– Где это ты была, Олечка, – спрашивала она, целуя ее: – что ты такая красная и растрепанная?
– Я училась вместе с Митей, – проговорила Оля, довольно холодно отвечая на ласку сестры.
– А ты все еще не оставила этого ученья, Оленька? – укоризненно заметила Анюта. – Такая ты уже большая, пора бы бросить… Вот и Филипп Семенович говорит, что это совсем не женское дело!
– А что же мне прикажет делать Филипп Семенович? – с худо скрываемой насмешкой спросила Ольга.
– Как что? – наставительно сказала Анюта, – известно: работать, в хозяйстве маменьке помогать; ну, да и об себе немного позаботиться… Смотри, ты какая: непричесанная, воротничок надет криво, платье запачкано… Посмотри на меня: никаких книжек я не читала, а как счастливо живу, и тебе надо постараться так же устроиться.
Оля ничего не отвечала и молча отошла в угол, предоставляя матери поддерживать разговор: ей неловко было прямо высказать сестре, что она не считает ее счастливой, что, во всяком случае, для себя не желает такого счастья, что то полное подчинение, ценою которого Анюта купила себе богатую обстановку, представляется ей тяжелым и унизительным…
Оля никогда не была дружна со старшею сестрою, никогда не уважала ее благоразумных советов и наставлений. Но с тех пор, как Анюта вышла замуж и сделалась покорным эхом своего мужа, она стала придавать еще меньше значения ее словам. Ее раздражал важный, наставительный тон Анюты; но слушая рассказы о разных мелких неприятностях и стеснениях, каким та подвергалась дома, она забывала свое неприятное чувство и от души жалела богатую сестру…
«Странная, право, женщина, – думалось девочке: – сама терпит так много горького, а все-таки советует во всем подражать себе; воображает, что я не могу устроить свою жизнь иначе, – лучше, чем она».
На другой день Митя вернулся из гимназии огорченный и рассерженный. С ним случилась небольшая неприятность, и он, как мальчик в высшей степени самолюбивый, был сильно взволнован, Дело в том, что большая часть класса не сумела разрешить задачу, преследовавшую Олю во время ее переговоров с Матреной Ивановной. Учитель спросил человек семь или восемь и от всех получил неудовлетворительные ответы. «Комаров!» вызвал он наконец, рассчитывая услышать новую нелепость, так как Комаров был одним из плохих учеников и не отличался сообразительностью. И вдруг, к удивлению всего класса, именно Комаров сумел разрешить трудную задачу и удовлетворительно объяснить ее. После урока пошли, конечно, оживленные толки о том, откуда у Комарова явилась такая неожиданная сметливость.
– Да ведь это он не сам, господа, – заметил один из воспитанников:-ему помогал Потанин: я видел как он вчера прошел к нему!
– А, это другое дело! – вскричали мальчики. – Чего же ты молчишь, Комаров? Ведь тебе Потанин показал, как сделать задачу?
– Ну да, как же, Потанин! – отвечал Комаров, которому почему-то показалось обидным сознаться в помощи товарища. – Потанин и сам не знал, как делать: его научила сестра!
– Э, так Потанин учится у сестры? Оттого-то он и первый, что у него дома есть учительница! Ишь – Потанину сестрица помогает! – кричали мальчики, радуясь случаю подразнить «первого» ученика.
– Совсем она меня не учит, – отговаривался Митя: – напротив, я ее учу!
– Ну да, как же! А задачу-то ведь она тебе показала? – не унимались мальчики.
Митя стал сердиться; попробовал сначала бранью, а потом и кулаками доказать товарищам, что не нуждается ни в каких учительницах; но это еще больше подзадоривало их, и к концу классов по рукам стали ходить карикатурные рисунки, изображавшие Митю в позе покорного ученика, а его воображаемую сестрицу – в позе строгой учительницы, с указкой в одной руке и розгой в другой. Митя страшно злился, а насмешникам только того и нужно было, и они преследовали его целый день.







