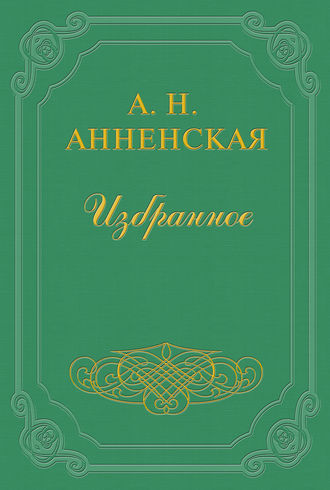
Александра Никитична Анненская
Брат и сестра
– Ну, уж, я все-таки буду больше любить Анну Михайловну, чем ее, – решила Маша.
В эту минуту раздался голос Володи:
– Федя, Федя, где же ты? Тетя, куда вы девали Федю? Федя, иди же играть!
– Я пойду к нему, а то он, пожалуй, прибьет меня! – испуганным голосом произнес мальчик и бросился навстречу своему двоюродному брату.
Маша осталась одна в темном уголку. У бедной девочки было так тяжело на сердце, что ей не хотелось никому показываться. Она закрыла лицо руками и долго плакала горькими, безутешными слезами.
За обедом все семейство опять соединилось в столовой. Один только Лева не являлся, и опять никому не пришло в голову поинтересоваться, где скрывается бедный мальчик.
Все кушанья ставились перед Григорием Матвеевичем, и он выбирал для себя самые лучшие куски, вовсе не заботясь о том, что остается другим. Детям накладывала Глафира Петровна, причем порции Володи были обильнее и лучше всех прочих. Анна Михайловна ела мало и неохотно: видно было, что она нездорова, хотя ничего не говорит о своей болезни. Вообще обед шел молча; одна только Глафира Петровна прерывала молчание, то делая строгое внушение Любочке о том, как надо держать ножик и вилку, то уговаривая «братца» скушать еще кусочек, то ядовито замечая Анне Михайловне: «Что вы ничего не кушаете? Вам, верно, не нравятся простые кушанья? А я нарочно заказала по вкусу братца…»
После обеда должен был прийти учитель, который каждый день два часа занимался с Володей и Левой русским и латинским языком, арифметикой и грамматикой.
– А мы будем учиться, дядя? – спросила Маша.
Григорий Матвеевич задумался.
– Да, ведь вот и учить их еще надо! – проговорил он недовольно. – Ну, нечего делать. Федя пусть учится вместе с нашими мальчиками, учителю все равно что двух, что трех учить! А с девочкой хоть ты займись? – обратился он к жене.
Чем же я займусь, я сама ничего не знаю! – печальным голосом проговорила Анна Михайловна.
– Ну, вот еще! Что знаешь, тому и научишь, невелика мудрость ей нужна! Французскому же учишь мальчишек!
– Да я только по-французски и помню немножко! Полноте, Анна Михайловна, – вмешалась Глафира Петровна, – уж что же вам не потрудиться немножко для сиротки! Ведь не чужая она вам, племянница вашего мужа!
– Да я готова… – начала Анна Михайловна.
– Ну, так и толковать нечего, – решил Григорий Матвеевич, – как я сказал, так и будет!
К уроку отыскали наконец Леву. Оказалось, что он спал где-то на сеновале и явился к учителю с заспанным лицом, с сеном в волосах, с тем же угрюмым видом, какой был у него утром. Учитель, длинный, сухой, молодой человек, с огромным носом, рыжими бакенбардами и тонкими, плотно сжатыми губами, начал спрашивать заданные уроки. Оказалось, что ни один из мальчиков ничего не знал. Вообще они, видимо, считали ученье вполне бесполезной вещью: Лева машинально исполнял все, что ему приказывал учитель, думая о чем-то совсем другом; Володя смотрел по сторонам, зевал и беспрестанно поглядывал на часы: скоро ли конец урока? Федя, привыкший у матери учиться прилежно, резко отличался от своих двоюродных братьев и сразу заслужил расположение учителя. Хотя он был моложе Володи и Левы, но, исключая латинского языка, знал из всех предметов больше их. Видя, что он один внимательно слушает объяснения, учитель обращался в конце класса исключительно к нему одному. Это предпочтение очень польстило мальчику, и он решил удвоить прилежание, чтобы всегда заслуживать похвалы учителя.
Урок Маши шел иначе. Анна Михайловна позвала ее в свою комнату, велела ей принести туда ее книги, посмотрела их, удивилась, что Маша уже так много знает, и затем сказала со вздохом:
– Я, право, не знаю, душенька, как и чему тебя учить. Твоя маменька была, должно быть, очень образованная женщина, а меня учили только двум вещам: играть на фортепьяно да говорить по-французски. Фортепьяно у меня нет с тех пор, как я замужем, так что музыку я забыла, а по-французски я еще помню и каждое утро учу своих мальчиков. Я и тебя готова учить вместе с ними, а теперь ты лучше почитай мне что-нибудь из твоих книжек, я и Любочку позову, пусть она также послушает.
Любочка уселась на маленькую скамейку у ног матери и внимательно слушала чтение. Анна Михайловна откинула голову на спинку кресла и закрыла глаза с видом крайнего утомления. Маша стала читать один рассказ, который очень нравился ей самой, и в первый раз со дня смерти матери она почувствовала себя спокойно и привольно. Ей бы так хотелось всегда сидеть в этой тихой комнатке, полуосвещенной маленькой лампой под зеленым колпаком, подле этой кроткой женщины с бледным болезненным лицом! Но вот раздался громкий голос Володи, означавший, что урок кончен; нужно было закрыть книгу и идти в столовую пить чай.
Григория Матвеевича не было дома, чай разливала Анна Михайловна, а Глафира Петровна сидела подле нее и зорко следила, чтобы она не дала детям ничего лишнего.
Володя выпил одну чашку и попросил другую, мать налила ему, а тетка пододвинула ему второй кусок булки. Через несколько секунд Лева также захотел второй чашки, Анна Михайловна уже собиралась наливать ему, когда Глафира Петровна остановила ее:
– Что это, как вы балуете мальчика! – заметила она. – Где это видано, чтобы дети пили по нескольку чашек чаю!
– Да ведь Володя же пьет, – попробовала возразить Анна Михайловна.
– Что же такое, Володя. Володя старше, а Леве вовсе не след давать, и братец то же скажет!
– Не пей, Левенька, ты ведь и не хочешь? – обратилась Анна Михайловна к сыну просительным голосом.
– Нет, очень хочу, – грубым голосом отвечал мальчик, – налей мне, мама!
– Тебе сказано нельзя, так и нечего просить, – строго, внушительно заметила Глафира Петровна.
– Я говорю с мамой, а не с вами! – дерзко отвечал мальчик.
– Каково! Это он так говорит с теткой! – вскричала Глафира Петровна, и желтое лицо ее покрылось краской гнева. – А вы, Анна Михайловна, слышите и даже не остановите его!
– Лева, как тебе не стыдно! – заметила мать.
– Не мне стыдно, а ей, зачем она мешается в чужие дела, – возразил мальчик.
– Отлично, прекрасно! – кричала Глафира Петровна. – Вот как вы позволяете вашему сыну говорить со старшими! После этого мне остается только уйти отсюда, а то этот негодяй, пожалуй, прибьет меня!
Она с шумом поднялась с места и направилась к дверям. Анна Михайловна с испуганным лицом бросилась удерживать ее и упрашивать простить глупого мальчика.
– Лева, – прибавила она затем, стараясь придать голосу своему как можно больше строгости, – поди прочь отсюда, ты не умеешь вести себя порядочно!
– Ну, что же, уйду, – заметил мальчик. – Вы думаете, очень интересно сидеть с вами! – И он вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью.
Глафира Петровна возвратилась на свое место, но по лицу ее было видно, что она все еще сердится; Анна Михайловна была взволнована, никто не говорил ни слова, и чай был отпит в молчании.
Пока дети брали урок, Глафира Петровна озаботилась устроить им помещение. Поставить их кровати в тесную детскую не было никакой возможности. В нижнем этаже дома были устроены парадные гостиные для приема гостей и кабинет Григория Матвеевича; обратить одну из парадных комнат в просторную детскую казалось нелепостью и для Григория Матвеевича, и для его сестрицы. Она распорядилась так: на месте Любочкиной кроватки в детской устроила постель для Феди, а для спальни двух девочек предназначила маленькую полутемную комнату, служившую складом всевозможного хлама. Хлам оттуда вынесли, поставили туда две кровати, два стула со сломанными спинками, старый деревянный стол, комод для белья – и вот комната была отделана.
Тяжело вздохнула Маша, оглядев эту отделку, прежде чем ложиться спать; закоптелый потолок, оборванные обои на стенах, старая поломанная мебель – все это делало комнату далеко не красивой. Одно утешало девочку: как ни плоха ее спальня, это все-таки уголок, который она может считать своим, где двоюродные братья не будут надоедать ей, где она может заниматься, чем хочет. Любочка была просто в восторге оттого, что ее поместили в одной комнате с Машей. Бедная малютка, боявшаяся и отца, и тетки, и братьев, сразу полюбила приласкавшую ее сестру и считала для себя величайшим счастьем оставаться с ней подальше от буйных мальчиков.
Глава III
Различие характеров
Мы нарочно так подробно описали первый день жизни сирот в доме их родственника, потому что этот один день может дать полное понятие о судьбе, ожидавшей их. Не только Маша, но даже маленький Федя сразу поняли, как неприятна будет эта судьба. Трудно было найти семейство, где домашняя жизнь была бы устроена хуже, чем у Григория Матвеевича. Сам Григорий Матвеевич никогда не думал о том, чтобы доставить своим домашним сколько-нибудь счастья; он хлопотал об одном только: как бы самому не терпеть отказа во всех своих прихотях да роскошнее принимать гостей, для которых раза три-четыре в год открывались парадные гостиные его дома; до остального ему не было дела. Анна Михайловна, кроткая, добрая, но слабая, болезненная женщина, страдала от грубости мужа, от недостатков детей, но не имела сил что-либо изменить в своем положении. Всем в доме управляла Глафира Петровна, хитрая, злая женщина, успевшая лестью и угодливостью до того заслужить расположение своего двоюродного брата, что он на все глядел ее глазами. Каждое утро являлась она в его кабинет с донесениями о всем, что происходило в доме накануне, и в этих донесениях худо приходилось всякому, кто осмеливался оказать ей непочтение или неповиновение. Она не щадила даже Анны Михайловны и детей, и им нередко приходилось подвергаться грубым проявлениям гнева Григория Матвеевича, не подозревая причины этого гнева, так как Глафира Петровна никогда не сознавалась в своих наговорах. Одно только существо в целом мире искренно любила эта злая женщина: это был Володя. После рождения своего старшего сына Анна Михайловна была тяжело больна и мальчика отдали на попечение тетки. Глафира Петровна рассказывала, что он родился необыкновенно слабым, болезненным существом и только благодаря ее заботам остался жив. Вероятно, вследствие этих забот она привязалась к своему воспитаннику и сильно баловала его. Анне Михайловне она совсем не позволяла вмешиваться в воспитание мальчика.
Что же такое, что вы его мать, – отвечала она на ее кроткие заявления. – Не вы с ним нянчились, а я, он скорее мне обязан жизнью, чем вам, – и при всяком удобном случае восстановляла ребенка против матери.
Володя был от природы мальчик не злой, но испорченный баловством тетки и дурным примером отца. Видя, как грубо Григорий Матвеевич обращается со всеми окружающими, он также был груб к тем, кого считал ниже и слабее себя; привыкнув к тому, что никто в доме не слушался Анны Михайловны, он и сам не обращал на нее никакого внимания; даже с теткой, действительно любившей его, он часто был очень дерзок, зная, что она готова все простить ему. Особенно часто не ладил он с своим младшим братом Левою. Леву все вообще в доме считали мальчиком злым, упрямым, и действительно, он всегда выглядел угрюмым, надутым, всегда старался всякому сделать какую-нибудь неприятность. Бедный ребенок не был виноват в своих недостатках. Ему не посчастливилось найти себе такую сильную покровительницу, какою была для Володи Глафира Петровна. Он вырос на руках матери, которая готова была отдать жизнь за своего любимого сына, но не имела достаточно силы, чтобы защитить его от тех обид и несправедливостей, какие ему пришлось переносить. Глафира Петровна боялась, чтобы Григорий Матвеевич не полюбил своего второго сына больше старшего, и потому не упускала случая наговаривать ему на Леву, уверяя его, что мать невыносимо балует ребенка и непременно сделает из него негодяя, если он будет вполне предоставлен ей. Вследствие этого Григорий Матвеевич начал муштровать бедного мальчика и строго наказывать его за разные воображаемые проступки, когда он еще и не понимал, что значит наказание. Ребенок невзлюбил отца, и Анне Михайловне стоило большого труда подводить его к Григорию Матвеевичу. Сделавшись старше, мальчик стал замечать, что его брату живется в доме гораздо лучше, чем ему: Володя всегда был одет чисто, даже нарядно, за обедом ему доставались более вкусные кусочки, и часто после обеда он грыз прянички или орехи; отец никогда не бил его, иногда только, рассердись, высылал вон из комнаты, и тогда Глафира Петровна спешила утешить его лакомствами или подарками. Лева, напротив, должен был питаться объедками, ходить в старых обносках брата и за малейший проступок выносил от отца самые строгие наказания. Мать, правда, любила его, любила страстно, но ее ласки не утешали, а еще больше раздражали его. Когда она украдкой, таясь от мужа, от Глафиры Петровны, даже от прочих детей, пробиралась в темный уголок, где он сидел озлобленный, оскорбленный, часто даже избитый, с нежностью прижимала его к груди своей и осыпала поцелуями его голову, лицо и даже руки, он чувствовал не благодарность к ней, а досаду.
– Оставь меня, мама! – говорил он, вырываясь из ее объятий.
– Да отчего же оставить? – спрашивала бедная мать. – Разве ты меня не любишь. Лева? Разве ты не видишь, как мне тебя жаль?
– Если бы тебе было жаль, ты не позволяла бы папе бить меня!
– Да как же я могу не позволить, милый мой? Что же мне делать? – чуть не с отчаянием спрашивала Анна Михайловна.
– Не знаю, – угрюмо отвечал мальчик. – Ты большая, ты должна это знать, спроси у Глафиры Петровны, она небось не позволяет обижать Володю.
– И я бы рада не давать тебя в обиду, мое сокровище! Да что же мне делать, если я не могу!
– А не можешь, так оставь меня, ты мне не нужна! – И мальчик отворачивался от матери, а она, шатаясь от горя, с трудом добиралась до своей комнаты и там долго рыдала, уткнув голову в подушку.
Чем старше становился Лева, тем чаще происходили подобные разговоры между ним и матерью его. Кончилось тем, что Анна Михайловна перестала ласкать его, и бедный мальчик рос совсем одинокий, заброшенный, ненавидя всех окружающих, стараясь всем без разбора мстить за те неприятности, какие терпел от отца и от тетки, делаясь с каждым днем все более и более злым и упрямым, все более и более заслуживая прозвание Волчонка, данное ему отцом.
Для Маши и Феди переход от мирной, спокойной жизни, какую они вели в доме матери, к тяжелой обстановке в доме дяди был слишком резок. Первые дни они как-то растерялись, пугливо приглядывались ко всему окружающему и не могли сообразить, как вести себя относительно родственников. Но скоро оказалось, что им нельзя жить у дяди так беззаботно, как они жили у матери: в семействе Григория Матвеевича всякий, даже маленький ребенок, должен был заботиться сам о себе, должен был сам хлопотать, как бы не попасть в беду, как бы защитить себя от нападений других. Здесь было мало слушаться старших, здесь надо было выбрать, кого из старших слушаться, так как Глафира Петровна очень часто расходилась с желаниями Анны Михайловны и, кроме того, нередко требовала от детей несправедливых и нехороших поступков.
Раз утром, дня через три по приезде детей из Петербурга, Володя и Лева, выпив скорее прочих свою порцию чаю, стояли у окна и смотрели на пробегавших мимо них школьников. Остальные дети еще сидели за столом около Глафиры Петровны. Вдруг Володя каким-то неловким движением руки ткнул локтем в стекло, и оно треснуло. В эту самую минуту в комнату вошел Григорий Матвеевич и послал Глафиру Петровну куда-то по хозяйству.
– Не сметь выдавать Володю, – шепнула она Маше и Феде, быстро уходя исполнить приказание братца.
Григорий Матвеевич тотчас же заметил случившуюся беду.
– Это кто сделал? – обратился он к двум мальчикам, в смущении не успевшим отбежать от окна. – Говорите сейчас! Ты, что ли, Володька?
– Нет, папа, не я! – проговорил испуганным голосом мальчик.
– Так ты, Волчонок?
– Неправда, не я! – мрачно процедил сквозь зубы Лева.
– Чего там не я! – закричал Григорий Матвеевич. – Кроме вас двух некому! Признавайтесь у меня тотчас! Ну, Володька, чего ты молчишь?
– Да это не я, папа, право, не я! – уверял мальчик.
– Значит ты, негодяй! – И Григорий Матвеевич уже замахнулся, чтобы ударить младшего сына, как вдруг маленькая ручка Маши удержала его руку.
– Дядя, – проговорила девочка дрожавшим от волнения голосом, – не трогайте Леву, не он разбил окно, а Володя.
– Володя? Так чего же ты отпираешься, дрянной мальчишка? – вскричал Григорий Матвеевич, хватая за ухо старшего сына.
В эту секунду Глафира Петровна вернулась в комнату.
– Братец, простите его, он нечаянно, – тотчас же заступилась она за своего любимца. – Володичка, стань на колени, проси у папы прощенья!
Володя опустился на колени и прерывающимся голосом повторял:
– Прости, папа, прости!
Смирение сына, видимо, понравилось Григорию Матвеевичу.
– Ну, чего перепугался, дурак, – проговорил он значительно смягченным голосом, – не убью тебя, небось! На этот раз, так и быть, прощу, только смотри у меня, коли опять сшалишь что-нибудь, вдвое накажу, так и знай!
Он дал мальчику поцеловать руку в знак помилования и вышел вон из комнаты.
– Кто же это пожаловался на Володеньку? – обратилась к детям Глафира Петровна, как только дверь за ним закрылась.
– Эта – она! – плаксивым голосом отвечал Володя, указывая на Машу.
– Дядя хотел бить Леву, – оправдывалась Маша, – а ведь Лева же не был виноват, я оттого и сказала.
– Вот нашлась заступница! – злобным голосом проворчала Глафира Петровна. – Ах ты негодная девчонка! Ведь я же нарочно сказала тебе, чтобы ты не смела жаловаться на Володеньку! Я тебе покажу, как меня не слушаться.
С этих пор Маша попала в немилость к Глафире Петровне. Девочка, привыкшая в доме матери вести себя хорошо, не делала ничего, заслуживающего наказания, но злая тетка постоянно находила предлог, чтобы придраться к ней и сделать ей строгое замечание: то она сидела не так, как следует, то глядела дерзко, то ничего не делала, то слишком много читала и тому подобное. Машу не особенно огорчали эти замечания. Она с первого взгляда невзлюбила Глафиру Петровну и всячески старалась держаться как можно дальше от нее. Большую часть дня она проводила в своей полутемной комнатке вместе с Любой, сильно привязавшейся к ней. Бедная Любочка была слабенькая, нервная, болезненная девочка. Она боялась всего и всех в доме, никогда не играла с другими детьми и была в высшей степени рада, что ей можно спокойно сидеть подле Маши, перебирая свои тряпочки и не слыша ни криков, ни брани. Самыми приятными часами для Маши были теперь те часы, когда к мальчикам приходил учитель, а она являлась со своими книжками в комнату Анны Михайловны под предлогом занятий с ней. На самом деле Анна Михайловна ничему не учила, да и не могла учить ее. Она сама получила очень плохое образование и давно перезабыла почти все, чему училась в детстве. По приказанию Григория Матвеевича она каждое утро давала детям уроки французского языка, но уроки эти были мучением для учительницы и не приносили никакой пользы ученикам. Анна Михайловна решительно не умела преподавать, и даже Маша и Федя, привыкшие у матери заниматься очень прилежно, не могли у нее ничему научиться; Володя же и Лева проводили все время урока в ссорах, драках или пустых разговорах. Иногда для водворения порядка являлась в комнату Глафира Петровна; она наказывала Леву, уводила к себе Володю и делала Анне Михайловне колкие замечания, приводившие в слезы бедную женщину. Занятия с Машей пошли иначе. Обыкновенно девочка для виду раскладывала свои книги и тетради на столе, а сама усаживалась на маленькой скамеечке у ног тетки и читала ей что-нибудь из своих старых книг или просто разговаривала с нею. Маша рассказывала о своей прежней жизни, о матери, о петербургских знакомых, Анна Михайловна слушала ее с самым участливым вниманием и в свою очередь рассказывала ей о своем детстве, о том богатом доме, где она жила с отцом, обожавшим свою единственную дочь, о том беспомощном положении, в каком она осталась после смерти отца, и о том, как Григорий Матвеевич уговорил ее сделаться его женой, обещая любить и баловать ее не меньше отца, о том, как грустно и тяжело ей жить теперь и как ей хотелось бы поскорей умереть. Слушая ее тихие, грустные речи, Маша сама часто плакала и, прижимая к губам бледные, исхудалые руки бедной женщины, чувствовала к ней невыразимую жалость. Ей горячо хотелось хоть чем-нибудь облегчить неприятное положение тетки, она готова была за нее вступить в борьбу и с дядей, и с Глафирой Петровной, и со всеми в доме, но Анна Михайловна убедительно просила ее не заступаться за себя, доказывая, что этим она еще больше испортит дело, и девочка скрепя сердце молчала, хотя глаза ее гневно блистали при всякой грубой выходке Григория Матвеевича, при всякой колкости Глафиры Петровны. Не имея возможности заступаться за тетку, Маша старалась выказывать ей свое внимание разными мелкими услугами, к которым бедная женщина вовсе не привыкла. При входе в комнату Анны Михайловны она спешила подать ей стул, она бросалась поднимать те вещи, которые та нечаянно роняла, она следила за ней глазами и пользовалась всяким удобным случаем, чтобы избавить ее от труда и предупредить ее желания.
– Федя! – вскричала Маша, вбегая в комнату, где брат ее прилежно учил урок. – Брось книгу и помоги мне поискать ключи тети Анны, она их потеряла и ужасно беспокоится.
– Оставь, Маша, не ищи, – спокойным голосом отвечал Федя, – тетя сама потеряла, сама и найдет.
– Неужели же ты не хочешь помочь ей, Федя! – вскричала девочка, удивляясь неуслужливости брата.
– Не хочу, да и тебе нечего помогать ей, разве ты не видишь, как тетя Глаша сердится за то, что ты все услуживаешь тете Анне.
– Так и пусть себе сердится! Мне все равно! Я ее не люблю, я люблю тетю Анну.
– А посмотри, Маша, какой у меня перочинный ножичек, хорош?
– Да, очень хорош. Откуда ты его взял?
– Мне его подарила тетя Глаша, вчера. А сегодня она попросила у дяди, и он позволил нам с Володей покататься в его хорошеньких санках! Вот ты не любишь тети Глаши, зато тебе и приходится целый день сидеть в темной комнате, а я всюду буду ездить с Володей!
Мальчик отложил в сторону книгу и, не обращая более внимания на сестру, побежал к своему двоюродному брату, уже несколько раз кликавшему его.
Маша задумалась. Она и раньше замечала, что Феде живется в доме гораздо лучше, чем ей. В первые дни Федя угождал всем окружающим из страха перед чужими, да к тому же еще неласковыми людьми. Но он скоро заметил, что невыгодно услуживать Леве или Анне Михайловне и, напротив, очень выгодно услуживать Глафире Петровне и Володе. Володя, находя в нем покорного товарища во всех своих играх, делился с ним своими лакомствами и постоянно хвалил его тетке, а Глафира Петровна была очень довольна почтительностью мальчика и охотно награждала его за его уступчивость ее любимцу. Таким образом, Федя пользовался почти всем наравне с Володей. Он мог играть и бегать в комнате Глафиры Петровны, мог во всякое время дня попросить поесть, когда был голоден, мог не только не бояться строгих наказаний Григория Матвеевича, но даже пользоваться от него некоторыми милостями, вроде позволения покататься и тому подобное.
«Я буду угождать тете Глаше, – рассуждал про себя мальчик. – Пусть она меня полюбит, как теперь любит Володю, даже больше, тогда я уже не стану слушаться Володи, я буду сам делать, что хочу, и дядя никогда не будет бранить меня, он и теперь говорит, что я хороший мальчик».
Маша не знала этих рассуждений брата, но ей неприятно было его поведение, хотя она сама не могла отдать себе отчета почему. Она радовалась, что его не бьют, не обижают, не морят голодом, но ей грустно было видеть его постоянную уступчивость Володе и, главное, его почтительную услужливость Глафире Петровне.
«Хорошо было бы, – мечтала иногда девочка, – если бы на свете и вправду жили те добрые волшебницы, о которых пишут в сказках. Я готова была бы идти на край света, чтобы отыскать такую волшебницу и упросить ее превратить Григория Матвеевича и Глафиру Петровну в каких-нибудь гадких лесных зверей. Как бы хорошо было без них! Тетя Анна распоряжалась бы всем в доме и была бы здорова, Любочка не боялась бы никого, Леву мы так ласкали бы, что он полюбил бы нас, и Володя понемножку сделался бы добрым мальчиком. Только, может быть, волшебница захотела бы и меня превратить во что-нибудь? Ну что же, это ничего! Я согласилась бы быть какой угодно тварью, только бы тете Анне и всем было хорошо».







