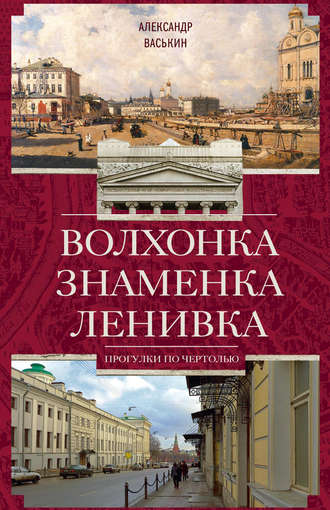
Александр Васькин
Волхонка. Знаменка. Ленивка. Прогулки по Чертолью
В этих каменных позах чувствовалось великое спокойствие, царственная медлительность и в то же время сильная динамичность. Не дурно было бы – подумал я – изобразить Олоферна вот таким, в этих типических движениях, каменным и страшным. Конечно, не так, вероятно, жили люди той эпохи в действительности; едва ли они так ходили по своим дворцам и в лагерях; это, очевидно, прием стилизации. Но ведь стилизация – это не сплошная выдумка, есть же в ней что-нибудь от действительности, рассуждал я дальше. Мысль эта меня увлекала, и я спросил Серова, что подумал бы он о моей странной фантазии?
Серов как-то радостно встрепенулся, подумал и сказал: – Ах, это бы было очень хорошо. Очень хорошо!.. Однако поберегись. Как бы не вышло смешно…
Мысль эта не давала мне покоя. Я носился с нею с утра до вечера. Идя по улице, я делал профильные движения взад и вперед руками и убеждал себя, что я прав. Но легко ли будет, возможно ли будет мне при такой структуре фигуры Олоферна заключать Юдифь в объятия?.. Я попробовал – шедшая мне навстречу по тротуару барышня испуганно отшатнулась и громко сказала:
– Какой нахал!..
Я очнулся, рассмеялся и радостно подумал: «Можно…»
Серов казался суровым, угрюмым и молчаливым. Вы бы подумали, глядя на него, что ему неохота разговаривать с людьми. Да, пожалуй, с виду он такой. Но посмотрели бы вы этого удивительного «сухого» человека, когда он с Константином Коровиным и со мною в деревне направляется на рыбную ловлю. Какой это сердечный весельчак и как значительно-остроумно каждое его замечание. Целые дни проводили мы на воде, а вечером забирались на ночлег в нашу простую рыбацкую хату. Коровин лежит на какой-то богемной кровати, так устроенной, что ее пружины обязательно должны вонзиться в ребра спящего на ней великомученика. У постели на тумбочке горит огарок свечи, воткнутый в бутылку, а у ног Коровина, опершись о стену, стоит крестьянин Василий Князев, симпатичнейший бродяга, и рассуждает с Коровиным о том, какая рыба дурашливее и какая хитрее… Серов слушает эту рыбную диссертацию, добродушно посмеивается и с огромным темпераментом быстро заносит на полотно эту картинку, полную живого юмора и правды.
Серов оставил после себя огромную галерею портретов наших современников и в этих портретах рассказал о своей эпохе, пожалуй, больше, чем сказали многие книги. Каждый его портрет – почти биография. Не знаю, жив ли и где теперь мой портрет его работы, находившийся в Художественном кружке в Москве? Сколько было пережито мною хороших минут в обществе Серова! Часто после работы мы часами блуждали с ним по Москве и беседовали, наблюдая жизнь столицы. Запомнился мне, между прочим, курьезный случай. Он рисовал углем мой портрет. Закончив работу, он предложил мне погулять. Это было в пасхальную ночь, и часов в двенадцать мы пробрались в храм Христа Спасителя, теперь уже не существующий. В эту заутреню мы оказались большими безбожниками, несмотря на все духовное величие службы. «Отравленные» театром, мы увлечены были не самой заутреней, а странным ее «мизансценом». Посредине храма был поставлен какой-то четырехугольный помост, на каждый угол которого подымались облаченные в ризы дьяконы с большими свечами в руках и громогласно, огромными трубными голосами, потряхивая гривами волос, один за другим провозглашали молитвы. А облаченный архиерей маленького роста с седенькой небольшой головкой, смешно торчавшей из пышного облачения, взбирался на помост с явным старческим усилием, поддерживаемый священниками. Нам отчетливо казалось, что оттуда, откуда торчит маленькая головка архиерея, идет и кадильный дым. Не говоря ни слова друг другу, мы переглянулись. А потом увидели: недалеко от нас какой-то рабочий человек, одетый во все новое и хорошо причесанный с маслом, держал в руках зажженную свечку и страшно увлекался зрелищем того, как у впереди него стоящего солдата горит сзади на шинели ворс, «религиозно» им же поджигаемый… Мы снова переглянулись и поняли, что в эту святую ночь мы не молельщики…»
В 1890-х гг. здесь жил «отец русской урологии» Федор Иванович Синицын (1835–1907), профессор медицины Московского университета по кафедрам хирургической патологии и мочеполовых болезней. С именем ученого связана борьба за выделение урологии в самостоятельную дисциплину с обязательным преподаванием в университете. Синицын владел выдающимся даром лектора. Его выступления вызывали огромный интерес коллег и студентов, проходили при переполненных аудиториях без перерыва, по два с половиной часа. Ему принадлежит ряд научных работ, среди которых «Переливание крови у людей», «Письмо об успехах хирургии в Германии», «Оценка промежкостного и высокого сечения при камнях мочевого пузыря», «Врожденное уродство стопы».
В 80-х гг. XIX в. в доме жил артист А.П. Ленский (1847–1908), «гениальный педагог» и «гениальный мастер сцены» (по словам В.Э. Мейерхольда). Ленский – это псевдоним, а настоящая его фамилия по матери – Вервициотти. Почему по матери – потому что он был внебрачным сыном князя Павла Ивановича Гагарина от гастролировавшей по России итальянской певицы Ольги Вервициотти. И естественно, что фамилию отца он взять не мог (вот как интересно получается – и у Живокини были итальянские корни).
Александр Павлович Ленский дебютировал в 1865 г., а с 1876 г. служил в Малом театре, став впоследствии одним из его ведущих артистов, а в конце жизни – главным режиссером. И сейчас еще вспоминают его как одного из лучших исполнителей роли Фамусова, которого он играл на протяжении двух десятилетий.
«Постоянное недовольство собой, возмущение недостаточной художественностью репертуара, страданья за малейшие ошибки театра, прежде всего, отличали Ленского. Творческая неудовлетворенность заставляет его вносить улучшения в жизнь театра. Нравы актеров, закулисная обстановка, репертуар, принципы постановки, устройство сцены и ее оформление, музыка в театре, образование актера, его уменье гримироваться, цели и задачи театра – все одинаково сильно волнует этого разностороннего художника (он не только актер, режиссер и театральный педагог, но и декоратор, художник, скульптор).
И все стороны театральной жизни Ленский обновляет, принося ряд новых идей, получивших впоследствии широкое распространение. Но Ленский был и великим актером: разносторонний, гибкий и тонкий, непревзойденный мастер грима и уменья внутренне перевоплощаться, он создавал образы полные впечатляющей силы, законченной художественности и гармонической красоты. Обаятельнейший «первый любовник России» в молодости, создавший поэтичнейшего Гамлета, трогательно-пылкого Ромео, заразительно-жизнерадостного Бенедикта, сильного волей Петруччио и потрясавшего своим энтузиазмом Акосту, Ленский не удовлетворяется своими успехами и полный молодого обаяния переходит на роли резонеров. Его Лыняев («Волки и овцы»), Лавр Миронович («Последняя жертва»), Кругосветов («Плоды просвещения»), Гомеc де Сильва («Эрнани»), Вильгельм Оранский («Эгмонт»), Фальстаф («Виндзорские проказницы»), являясь подлинными произведениями искусства, поражают отказом от прежних приемов воздействия на зрителя.
В старости – опять галерея различных и всегда безупречно завершенных образов. Здесь сатирически остро преподнесенный Мамаев («На всякого мудреца…»); Городничий, в котором Ленский, сознательно идя на упреки современников, дает «пересмотр традиций»; Фамусов, которого Ленский создаст со всей присущей ему художественностью и тонкостью и вместе с тем, больше чем кто-либо владея уменьем произносить грибоедовские стихи, раскрывает драматургические приемы великого поэта. В этот же период Ленский буквально потрясает театр в Николасе («Борьба за престол» Ибсена) и трогает в роли Дудукина («Без вины виноватые» Островского), в роли, которая до его исполнения никогда не обращала на себя внимания зрителей.
Он впитал в себя многое из того, что было присуще его предшественникам: обаяние личных качеств (что отличало Самарина), уменье давать творческий процесс на каждом спектакле (что свойственно было Мочалову), сознание общественного значения, какое имеет работа актера, забота о театре в целом, а не о себе в театре (черты, отличавшие Щепкина). Вместе с тем Ленский сумел быть созвучным современности: он поднимал аудиторию из мрачных будней реакции в романтические сферы протеста против косности и мещанской морали. Гений Ленского умел предвосхитить ряд приемов построения образа, выявившихся в театре следующей эпохи: воспроизводимый им тип окрашивался чертами характерными и индивидуальными, присущими данному образу.
Человек, не получивший образования (ребенком он остался сиротой и был на побегушках у своего воспитателя актера Полтавцева, что дало ему возможность с детства узнать театр), он стал, благодаря серьезной начитанности, одним из культурнейших людей своего времени. Юношей он едет в провинцию, где, начав с ничтожных ролей, становится знаменитостью. Его приглашают в Москву. Он выступает в Общедоступном театре, а потом дебютирует в Малом. Завоевав признание прессы и сделавшись самым популярным актером Москвы, Ленский уходит из Малого театра на петербургскую сцену и затем возвращается вновь в Москву. Ленский, сделавшись преподавателем Театрального училища, организует утренники молодых сил и создает для актерского молодняка Новый театр – Ленский здесь формирует ту смену, которая потом вошла в Малый театр и сейчас стоит в первых рядах его.
В 1906 г. он назначается главным режиссером Малого театра и пытается ввести целый ряд реформ, которые ему не удается осуществить из-за театральных интриг и газетной травли. В результате он вынужден уйти со сцены.
Деятельность и творчество Ленского говорили о том, что театр не должен останавливаться в своем развитии, повторяя ранее достигнутое. Всегда идти вперед с современностью – вот основной завет, оставленный Ленским, считавшим, что даже и величайший мастер прошлого, воскреснув, не мог бы иметь значения, если бы он продолжал творить прежними своими приемами… Вечное искание и стремление к новому делают гениального Ленского исключительным явлением в Малом театре»[4] – такая характеристика не кажется нам сегодня архаичной, несмотря на то что была дана почти семьдесят лет назад, более того, она рисует перед нами образ, основные черты которого недосягаемы для многих современных актеров и сегодня.
В этом же доме жил и коллега Ленского по Малому театру Александр Иванович Южин (1857–1927). Происхождения он был куда более знатного, чем Ленский. Да и в Малый театр пришли они разными путями.
Несмотря на то что родился он в селе Кукуевка Тульской губернии, принадлежал он к знатнейшей грузинской фамилии. Настоящая фамилия его была Сумбатов.
Князь Сумбатов окончил юридический факультет Петербургского университета. Но еще в тифлисской гимназии он участвовал в домашних спектаклях, а студентом писал и пьесы для театра. Затем в Петербурге он также обратил на себя внимание незаурядной игрой на клубной сцене. С 1876 г. стал выступать на профессиональной сцене в Тифлисе. В 1882 г. уже под фамилией Южин он был приглашен в театр Бренко в Москве. И после дебюта в роли Чацкого в 1881 г. был принят в Малый театр. В Малом театре сложилась не только творческая карьера Южина. В 1909 г. он стал управляющим труппой театра, с 1923 г. – директором.
Помимо игры в Малом театре, Южин писал пьесы и написал их довольно много – в 1901 г. вышло его собрание сочинений в трех томах. По оценкам современников, пьесы Сумбатова были очень сценичными, но не отличались особенной глубиной захвата и постановкой серьезных психологических задач.
«Актер, драматург, директор театра в течение шестнадцати лет, теоретик театра – такова многогранная деятельность этого широко образованного человека, одного из немногих русских актеров, имевшего знаки французских академических пальм и звание почетного академика Академии наук. Он был убежденным сторонником примата актера в театре, и ряд его статей, характеристик, посвященных актерам, – несомненный вклад в изучение мастерства сценических деятелей; он был признанным сторонником академизма, часто остававшимся в одиночестве, но с громадной убежденностью отстаивавшим традиции Малого театра, которые он первый попытался осознать, выделив из них те, жизнеспособность которых казалась ему непреложной.
Завершитель тех традиций, основоположником которых был Самарин, Южин был неизмеримо культурнее его и шире по диапазону игранных им ролей. Южин создал свой стиль игры в трагедии, в романтической драме, в драме современной и в комедии. Интерпретация каждой сыгранной им роли заслуживает подробного описания – она была всегда оригинальна, не говоря уже о мастерстве ее выявления.
В трагедии – здесь в его репертуаре был весь Шекспир (за исключением Лира и Цезаря) – он большими яркими планами рисовал героев, и образ получался цельный, яркий и крупный; стихи трагедии, виртуозно разработанные, с мастерским звучанием и блестящим дыханием преподносились им на повышенно-разговорном тоне, нигде, однако, не впадавшем в ложную декламацию; жесты, мизансцены, манера носить костюм, построение фразы были художественно продуманны и взвешенны – места «случайностям» не оставалось.
Это великолепное мастерство, поражавшее на русской сцене своей исключительностью, затмевало в глазах зрителя ту внутреннюю эмоциональность, которой актер умел насыщать трагические переживания своих героев. В романтической драме – в его репертуаре был и Шиллер, и Гюго – Южин увлекал красотой создаваемого образа, тоже продуманного и четкого, но всегда полного красочности и блеска той формы, которую актер умел ему придавать: особенно памятен его монолог Карла V в «Эрнани», в котором дана была «оркестровка» самых разнообразных звучаний, сопровождавшихся величественными движениями и жестами.
В современной драме Южин опять умел находить иную манеру произнесения: несмотря на полнейшую четкость звучания, речь его была в полном смысле слова разговорной, а образ всегда раскрывался как образ человека громадной воли, большого ума.
Наконец, в комедии такие шедевры, как Телятев («Бешеные деньги»), Фигаро, лорд Болинброк («Стакан воды»), наконец Фамусов, поражали легкостью речи, блеском диалога, предельной простотой и виртуозностью преподнесения текста. Эти роли Южин играл без малейшего признака какого-либо нажима и всегда с тончайшей иронией над тем, кого он изображал, а образ вырастал в фигуру типическую, в фигуру, тесно связанную с эпохой и с социальной средой. Имя Южина-актера прежде всего вспоминается как имя виртуозного мастера звучащей сценической речи, которую он так по-разному умел использовать в зависимости от того, какой характер носила воспроизводимая им пьеса, и в каждой роли Южин умел выдержать вкладываемый им стиль исполнения.
Сын грузинского аристократа и дочери польского офицера-повстанца, Сумбатов… дебютировал в Малом театре (в Чацком), а под конец своей жизни создал Фамусова, в котором, ничего не взяв от своих великих предшественников, воплощавших этот образ, был так же велик…» – писали критики.
Здесь же жил архитектор Иван Иванович Поздеев (1858–1928), автор большого числа проектов московских зданий. Одни из самых известных – дом Игумнова (работу над которым он заканчивал после самоубийства своего брата, тоже архитектора, Н.И. Поздеева), собственный особняк в Нащокинском переулке, доходные дома на Арбате, храм Воскресения Словущего Утоли моя Печали на Госпитальном валу.
Иван Иванович Поздеев в 1881 г. окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества со званием неклассного художника архитектуры, а в 1883 г. – Императорскую Академию художеств со званием классного художника архитектуры второй степени. Это дало ему возможность значительно расширить диапазон своей деятельности.
В 1879–1882 гг. он служил архитектором в Московской уездной и Губернской земской управах, в 1887–1889 гг. был городским архитектором Рыбинска. В 1893–1911 гг. работал сначала сверхштатным техником Строительного отделения Московского губернского правления, затем был зачислен в штат. В 1900–1903 годах служил архитектором при московских родовспомогательных заведениях. В 1903 г. Поздеева утвердили в должности архитектора храма Христа Спасителя.
Улица Волхонка, дом 10. Коммунальное детство Андрея Макаревича
Почти два столетия с конца XVI в. владение принадлежало храму Зачатия Иоанна Предтечи, что на Ленивом торжке. А при храме, как водится, было кладбище. Первые сведения о деревянном храме относятся к 1589 г., а в камне он возведен в 1657 г. В 1792 г. состарившуюся церковь разобрали, а землю продали с аукциона. Генерал-губернатор Москвы А. Прозоровский так и распорядился: «Разобрать будущей весной церковь Иоанна Предтечи на Ленивке, часть земли отвести под расширение улицы, а другую часть отдать под лавки. В лавках против Каменного мосту был бы портик или портал, весьма по архитектуре регулярный, и делал бы мосту вид украшения».
Кто был покупателем участка, неизвестно, ясно лишь, что именно от этого владельца по просроченной закладной земля досталась действительному статскому советнику Павлу Ивановичу Глебову, знакомому семьи Пушкиных, крестному отцу их сына Льва (младшего брата Александра Сергеевича).

Волхонка, дом 10
Строительство городской усадьбы по специальному проекту Управы благочиния началось в 1804 г. Фасад должен был быть «в два этажа портик с 4 колоннами с фронтоном, с перилами на балконе и с полукруглым большим окном, по сторонам того портика по две лавки с лучшим архитекторским украшением в два этажа». В дальнейшем владельцами усадьбы были Волконские, Шуваловы, Вяземские. В реестре памятников архитектуры фигурирует как дом О.А. Шуваловой.
Последними владельцами усадьбы были банкиры Волковы, учредившие здесь «Торговый дом Г. Волков с сыновьями». Их предок Гаврила Волков, крепостной крестьянин помещиков Голохвастовых, отличался большой тягой к чтению. Князь Н.Б. Юсупов, известный меценат, поспособствовал его освобождению. Получив вольную, Гаврила, став офеней (торговцем книгами), пришел в Москву. Далее легенда гласит: перейдя Москву-реку, он присел отдохнуть на крыльце дома на Волхонке. Прошли года, и разбогатевший Волков приобрел этот особняк в память о том счастливом дне, когда он пришел в Москву. А в доме он открыл антикварный магазин, где был случайно обнаружен знаменитый портрет А.С. Пушкина кисти Тропинина.
После смерти хозяина дом перешел к его сыну Петру Гавриловичу Волкову, владевшему оным в 1865–1877 гг. П.Г. Волков был ответственным комиссионером при Московской Оружейной палате, а с 1877 г. служил там оценщиком.
В 1847 г. в доме проездом останавливался Н.Г. Чернышевский, он приезжал в Москву из Петербурга, где в это время учился на историко-филологическом отделении философского факультета университета. Николай Гаврилович еще только-только начинал задумываться над тем, что ему делать, так сказать, вырабатывал основы мировоззрения.
С 1875 по 1903 г. часть дома занимала Московская театральная библиотека Рассохиных. И это еще одно неслучайное совпадение – ибо неподалеку в Пашковом доме существовала большая Румянцевская библиотека. Супруги Рассохины – Сергей Федорович (1850–1929) и Елизавета Николаевна (1860–1920) чем только не занимались. Муж – издатель, книготорговец, драматург. К нему в Москву по издательским делам приезжал Ф.М. Достоевский.
7 ноября 1878 г. писатель сообщал своей жене: «Поехал к Рассохину. Сказал мне, что всей суммы отдать мне не может, а отдаст лишь 20 р. А что если б я подождал денька два, то отдаст больше. Я сказал, что зайду 9 ноября». И Федор Михайлович, поверив Рассохину, заглянул к нему 10 ноября 1878 г. «Вчера получил от Рассохина 25 р., – сообщал Достоевский жене, – а «всей суммы отдать не могу». Заметил я некоторую даже грубость и фамильярность в его ответе. Я ему ничего не сказал».
Жена Рассохина не уступала ему по предприимчивости. Она была и театральным антрепренером, и переводчицей, издавала журнал «Будильник». Устраивала гастроли театральных трупп не только по всей России, но в Европе, для чего в 1892 г. она учредила Первое театральное агентство для России и заграницы Е.Н. Рассохиной, развившее необычайно бурную деятельность.
Театральная библиотека Рассохиных на Волхонке была платной. При ней содержали литографию (располагалась на Тверской улице). В литографии печатали новинки драматургии и направляли в библиотеку. Пользоваться ею было удобно, сюда мог прийти любой имеющий отношение к театральному делу – актер, режиссер, антрепренер.
Этот дом чуть было не снесли в начале 1930-х гг. при строительстве первой ветки Московского метрополитена. Дело в том, что метро рыли открытым способом, роя котлован поперек всей Волхонки, от станции «Библиотека имени Ленина» до станции «Дворец Советов», которую мы нынче называем «Кропоткинской». Дома мешали строительным работам. Но отселить жильцов не успели, тогда решили рыть котлован под домами. Люди, жившие на Волхонке, выйдя на свои балконы, могли наблюдать, как внизу копаются рабочие. Чтобы здания не обрушились, под них подвели сваи. Так и продолжалось почти полгода. Когда туннель прорыли, вся улица вновь приобрела привычный вид.
После 1917 г. усадьба была приспособлена под коммунальные квартиры. Известный музыкант и композитор Андрей Макаревич в своих воспоминаниях о коммунальном детстве, которые он назвал коротко и ясно – «Сам овца», с присущей ему наблюдательностью рассказывает о проведенных годах на Волхонке. В них не только рассказ о тех достопримечательностях Волхонки, которых уже нет и никогда не будет, но и удивительные для сегодняшнего дня подробности советского коммунального быта, в коем полное отсутствие какого-либо комфорта не влияло на в общем-то дружелюбную атмосферу социалистического общежития. И хотя номер дома Макаревич не называет, можно догадаться, что речь идет именно о здании, куда переехал Музей личных коллекций.
Было это лет пятьдесят назад…
«Наш дом на Волхонке был совершенно замечательный. Говорю «был», потому что сейчас на его месте стоит его муляж – его разрушили и затем воссоздали – увы, только внешне. С применением, так сказать, новейших технологий.
А дом пережил пожар 1812 г. (он принадлежал князьям Волконским или, по московскому просторечию, Волхонским) и на моей памяти находился в том состоянии, когда ничего нового с ним произойти, как казалось, уже не может. Дважды выселяли из него всех жильцов, а потом и организации, занявшие их место, на предмет крайней аварийности. А дом стоял и стоял. Когда его брались ремонтировать, под желтой штукатуркой открывалась дранка, уложенная крест-накрест и замазанная глиной, и видно было, что дом внутри – деревянный.
В канун одного из таких ремонтов я как раз научился рисовать пятиконечную звездочку, не отрывая руки, и всюду, где можно, оставлял за собой этот нехитрый знак, самоутверждаясь таким образом. Так вот, дом штукатурили, а я пролез между ног рабочих (было мне года четыре) и прутиком начертал на сырой стене несколько кривоватых звезд. Стена высохла, и звезды продержались удивительно долго – лет двадцать. До следующего ремонта. В доме уже давно никто не жил, а я приходил иногда проведать свои звезды.
Цоколь дома красили в серый цвет, а стены – в желтый и старательно белили балюстраду полукруглого балкончика на втором этаже. На балкончике этом, видимо, вечерами пили чай дочки князя Волхонского, поглядывая вниз на гуляющую публику. При нашей жизни этот балкончик уже не открывался и никто на него не выходил. Жалко.
Да и парадный подъезд, как водится, был заколочен наглухо и густо замазан масляной краской – в десять слоев. Жильцы пользовались черными ходами, которыми раньше ходила обслуга. Удивительное плебейство советской власти! Или это сохранившаяся в подсознании боязнь хозяев, которых выгнали из их домов?
А по Волхонке ходил трамвай, и магазин «Продукты» назывался не «Продукты», а «Бабий магазин», а овощная лавка во дворе за ним – «Дядя Ваня», по имени продавца. Кто сейчас знает, как зовут продавца в овощной лавочке?
А если подойти к краю Волхонки (она ведь, наверное, одна из самых коротких улиц Москвы!), то на углу напротив Библиотеки Ленина виделась не покрытая плешивой травой пустошь, а аптека… А прямо напротив наших окон – там, где теперь какие-то «Соки-воды», – располагалась парикмахерская. Парикмахера звали Абрамсон. Двери всегда были открыты настежь, и седой Абрамсон выносил на улицу стул и сидел на нем, покуривая. Он не был перегружен работой.
Парадное наше находилось напротив Музея изобразительных искусств и имело три каменные ступеньки сразу за уличной дверью. Внутри пол был покрыт асфальтом (вот странно!), прямо по курсу – дверь в квартиру на второй этаж (туда, где балкончик). Я так и не знаю, кто там жил. Слева – тетя Вера из аптеки. И справа – наша дверь.
Черный круглый звоночек с белой эмалированной кнопочкой. К нам – два звонка. Открыв дверь, вы попадали в длинный и причудливо изогнутый коридор. Стены его были покрыты желтым мелом и в районе телефонного аппарата сплошь исчирканы номерами и именами. Телефонный аппарат висел на стене и был черным, продолговатым и железным. Хромированный диск его, вращаясь в обратную сторону, издавал удивительно приятный звук. Нынешние пластмассовые телефоны при всем желании такого звука издать не могут. А номера были шестизначные и с буковкой впереди. Наш номер – К4-19-32.
На стенах коридора висели велосипеды, банные шайки и жестяная детская ванна – моя. Еще по левую руку стоял гигантских размеров черный комод (не знаю чей), а по правой стене шли двери. За первой дверью жили Марины – баба Лена, дядя Дима, тетя Лена и сын их Генка. Дядя Дима работал водителем грузового троллейбуса. Вы не знаете, что такие бывают? Я видел! Был дядя Дима огромен, слегка небрит, хрипл и добр; может быть, по причине постоянного выпивания.
С дядей Димой связаны у меня воспоминания. Он катал меня однажды на своем грузовом троллейбусе вокруг Музея изобразительных искусств (поскольку Музей изобразительных искусств был имени Пушкина, то и звали его все для простоты – Музей Пушкина). Меня поразило, что троллейбус может, оказывается, ехать и без проводов, сложив на спине дуги, – с помощью аккумуляторов. Я не знал, конечно, что такое аккумуляторы, но заочно проникся к ним колоссальным уважением.
За соседней дверкой находился серый и пятнистый, как жаба, унитаз и рваная на кусочки газета в клеенчатом карманчике. Запиралось это дело изнутри на неверный крючок, и в остававшуюся щель можно было свободно увидеть, кто же там так долго сидит. Висело тут же два расписания (написанные, видимо, рукой моего отца – твердым архитектурным шрифтом). Одно из них делило утренние часы пользования ванной между жильцами, а второе указывало, какая семья когда моет полы в коридоре и на кухне.
Кухня начиналась сразу, если повернуть налево от двери в ванную. Была она большая, низкая и имела два окна во дворик. (Я их очень любил – всегда было видно и слышно, кто гуляет.) Еще там был чулан и сени в черный ход. В сенях лежали дрова – дом наш отапливался печами, и во дворе стояли сараи для дров, у каждого своя секция с отдельной дверью, и привозили дрова на подводе, в которую была впряжена настоящая лошадь. Стояли на кухне четыре газовых плиты – у каждой семьи своя. Я сидел на окне и смотрел во двор, а на плитах что-то варилось, пеклось, булькало, соседи делились впечатлениями от похода в «Бабий магазин», одалживали друг у друга муку и спички. Жили дружно.
Наша дверь вела не сразу в комнату, а сначала в узенький темный коридорчик. При всей его узости он еще был забит вешалками с пальто, какими-то сундуками и хламом. Освещался коридорчик тусклой-тусклой лампочкой, но до выключателя я не дотягивался, а окон в коридорчике, естественно, не было. Если удавалось проскочить коридорчик, то попадешь в комнату, из которой шла дверь в еще одну – мы по причине многочисленности имели две комнаты.
В двух комнатах жили: я, мои мама и папа, мамина сестра Галя и моя бабушка Маня. Жила еще, как правило, моя няня. Няня приглашалась не для роскоши – просто мама работала и училась, папа работал, тетя Галя училась, баба Маня работала, и оставлять меня днем было не с кем. Няни приезжали из деревни и время от времени сменяли друг друга. Сначала была тетя Маша Петухова, потом Катя Корнеева из деревни Шавторка Рязанской области, потом ее сестра Нина.
Как я сейчас понимаю, это был один из немногих способов молодой деревенской девушке попасть в город. Просто так паспорта в деревнях на руки не выдавали, для этого нужно было основание – временная прописка. А тут уже няня выходила замуж за какого-нибудь солдата, и ее сменяла следующая.
В первой комнате располагались: диван с тяжелыми жесткими подушками и двумя валиками (я любил с ними бороться), черная рифленая печь до потолка, буфет с архитектурными излишествами – тогда других не было (хрущевская мода на «современное» еще не наступила). Потом – окно на Волхонку, потом – пианино «Красный Октябрь» в сером чехле и на нем – телевизор «КВН» с линзой. Вся квартира приходила к нам смотреть телевизор. Что показывали, было совершенно не важно, – сам факт какого-то движения на экране являл из себя чудо и вызывал радостное изумление.
Еще посреди комнаты стоял старый дубовый стол со стульями. У стола были массивные квадратного сечения опоры, и я очень любил ходить под этот стол пешком – особенно когда приходили гости. Меня не было видно, а мне все было слышно; кроме того, я мог спокойно рассматривать всякие интересные ноги сидящих за столом.
Во второй комнате стоял комод с зеркалом, кровать мамы с папой, кровать моя, письменный стол и раскладушка. Как это все помещалось на десяти метрах, я не понимаю. Впрочем, раскладушку на день убирали. Одну стену целиком занимала книжная полка, вторую полку над моей кроватью строили уже при моей жизни.
Одно окно выходило на Музей Пушкина, другое – полукруглым выступом – на угол Волхонки. Дом наш имел очень толстые стены, и подоконники были очень глубокие – почти в метр».
Интересно, что отец Андрея Макаревича по профессии был архитектором. И в Москве есть его работы. Вадим Григорьевич Макаревич является одним из авторов памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве, который Фаина Раневская назвала «холодильником с бородой». Он также оформлял советские павильоны на всемирных выставках в Брюсселе, Монреале, в Париже.
Это здание долго стояло в лесах, пока, наконец, весной 2005 г. сюда не переехал Музей личных коллекций из дома 14 по Волхонке, в котором он находился с 1994 г.







