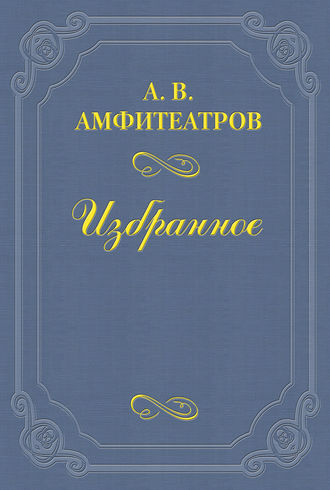
Александр Амфитеатров
Отравленная совесть
XII
Верховская, ошеломленная изумлением, даже привстала с места. Ревизанов продолжал тихим и ровным голосом:
– Сядьте, успокойтесь… Да, я прошу вашей любви, я влюблен в вас – и самым глупейшим образом, как мальчишка. Послушайте, Людмила…
– Как вы смеете! – вспыхнула она.
– Виноват: Людмила Александровна. Я часто бываю в Москве, но все проездом: у меня дела больше за границею и в Петербурге. Удивляюсь все-таки, как мы с вами не встретились до сих пор. Я много слышал о вас, и все хорошее. Верховская – красавица, Верховская – умница, Верховская – воплощенная добродетель. И признаюсь: каждый раз, как слышал, что-то щипало меня за сердце. Красавица, да не твоя! Умница, да ты ее потерял, как дурак, бросил, как петух – жемчужину! Добродетель, да ты надругался над нею, – и она тебя ненавидит и презирает. Наконец я увидел вас в опере, в ложе с Ратисовою. Вы сильно переменились, и я не сразу узнал вас, но влюбился еще прежде, чем узнал. Увидел и тогда же решил в уме своем: эта женщина должна быть снова моею, или я возненавижу ее и сделаю ей все зло, какое только может сделать человек человеку. Это у меня всегда так: кого я очень сильно люблю, того и ненавижу. Ха-ха! что-то мужицкое: кого люблю, того и бью.
Людмила Александровна слушала и терялась, что думать, чего еще ждать, как отвечать. Дело приняло совсем необыкновенный оборот; странность положения была бы почти смешною, если бы не чересчур страстный и сильный тон слов Ревизанова.
– Это бред какой-то… Вы с ума сошли! – воскликнула она. – Вот уж всего я ждала, только не этого!
– Да? – Ревизанов засмеялся. – Значит, так и запишем в книжку: Андрей Ревизанов объяснился в любви Людмиле Верховской, а она прогнала его прочь. Но я не послушаю вас и не пойду прочь, потому что вы прогнали меня необдуманно и в конце концов полюбите меня.
– Никогда!
– Переменим выражение: будете принадлежать мне.
– А!.. негодяй! – вырвалось у Верховской. Она дрожала от бешенства. Лицо ее пылало красными пятнами. Глаза метали молнии.
Ревизанова передернуло, но он совладел с собою:
– Опять резкое слово. Ну, хорошо, негодяй! Так что же? И негодяй может быть влюбленным. Скажу даже больше: влюбленный негодяй – зверь весьма интересный, Людмила Александровна, займитесь изучением: я познакомлю вас с этим типом. Влюбленный негодяй, например, просит любви только один раз, но, отвергнутый, не отступает, а требует ее, берет хитростью, силой, покупает, наконец…
– И вы зовете это любовью?
– Что же делать, Людмила? Будь я не негодяй, как вы обозвали меня, может быть, и любовь моя была бы иною, но я – негодяй, значит, мне и не к лицу любить иначе. Ваша честь в моей власти. Если хотите, я продам вам вашу честь.
– Боже мой! есть ли в вас стыд, Ревизанов?!
– Одно свидание, один час у меня, наедине со мною, по-старому, как восемнадцать лет назад, – и вы получите все ваши письма. А без этой улики я бессилен против вас: бездоказательное обвинение разобьется о вашу репутацию. Меня примут либо за подлейшего из клеветников, либо за сумасшедшего… Один час, один только час… Что же?
Людмила Александровна глядела на него безумными, почти суеверно-испуганными глазами.
– Дьявол вы или человек? – прошептала она. – Я не знаю… мужчина не решился бы предлагать такую отвратительную подлость женщине, которую любил когда-то…
– Когда-то я не любил вас, Людмила, но лишь забавлялся вами; а вот теперь люблю! Да, люблю… Вот! вот! – взгляните на меня еще раз таким мрачным взглядом!.. Люблю вас за это гневное лицо оскорбленной Юноны, за этот огненный презрительный взгляд, за это тело, рожденное для сладострастия и не знающее его, за вашу ненависть ко мне. Конечно, я не Тогенбург, я не стану вздыхать под вашими окнами или писать вам стихи… Платонизм – не по моей части, да и вы не девочка, чтобы верить в их фальшь. Но я никогда не верил в силу мечты, а теперь познаю ее. Мои думы, мои сны полны вами. Вы ненавидите меня, а мне приятно быть с вами; каждое ваше слово – дерзость, а для меня оно – музыка. Но полно распространяться о любви: каким соловьем я ни пой, вы уже не влюбитесь в меня, а принадлежать мне вы и без того будете!..
По щекам Людмилы Александровны давно катились горькие слезы. С тех пор как она сознала себя беззащитною в руках Ревизанова, гнев на оскорбление исчез: его сменили стыд, страх и беспомощная обида.
– Сжальтесь надо мною! – прервала она Ревизанова, задушив рыдания. – Я с трудом сдерживаю себя; если вы продолжите свои объяснения, я кончу истерикой. Неужели это также входит в ваши расчеты?
Ревизанов встал:
– О, нет, никак! Я не смею задерживать вас. Но надо же выяснить наши отношения. Последний вопрос – отвечайте на него без лишних слов и оскорблений: согласны ли вы быть моею?
– Нет!
– Это окончательный ответ? Подумайте!
– Нет, нет и нет!
– Тогда выслушайте и мое последнее слово. Я даю вам неделю срока. Сегодня воскресенье, – если в следующую субботу я не увижу вас у себя, то ваши письма получат огласку.
Людмила Александровна взялась за голову: смертельная тоска схватила в клещи ее сердце…
– В какую пропасть я попала! – стонала она.
Ревизанов продолжал холодно и беспощадно:
– Сперва над этими письмами посмеется кружок веселой золотой молодежи, потом они дойдут до Степана Ильича. Хотя он и верует в вас, как в Бога, но вещественным доказательствам – вашим письмам, чувствительным надписям вашею рукою на фотографических карточках он тоже поверит. Пусть простит он вам ваш обман. Я знаю вашего мужа: он мягок, слишком мягок… Но вряд ли уверенность, что вы надругались над его именем, прежде чем получили право носить это имя, будет способствовать продолжению вашего супружеского счастья.
– Да, вы сильны, вы очень сильны, – шептала Верховская, бессмысленно смотря перед собою окаменелыми глазами, – я вас боюсь…
– Затем: у вас есть сын. Родился он в половине года, следующего за тем, как мы расстались столь драматически… Что, если я явлюсь с вашими письмами к вашему сыну и скажу ему: «Я твой отец»? Пусть я не докажу своих слов, но ведь и вам нечем опровергнуть мое обвинение до полной доказательности. Значит, сомнение-то я все-таки брошу в вашу семью: и отец, и сын должны будут одинаково прислушаться к моему голосу… Говорят, у вас в семье рай земной. Ну, тогда, конечно, раю конец: ад начнется! Ах, Людмила Александровна! остерегитесь! пожалейте мальчика! поверьте мне: словцо «незаконнорожденный» достаточно длинно, чтобы одним подозрением отравить человеку целую жизнь.
– Я вас боюсь, я вас боюсь… – шептала она.
– Так как же? – тихо спросил он, после долгого молчания.
Она смотрела, точно только что проснувшись.
– Не знаю я совсем сбилась с толку… право, не знаю, что вам отвечать…
– Я буду считать ваши слова за согласие, – холодно сказал Ревизанов.
– Нет! нет! – с ужасом воскликнула Верховская. – Ради Бога, нет… Я должна подумать… Не отнимайте у меня хоть этого права.
– Как угодно. Неделя срока – в вашем распоряжении. В субботу я буду ждать до двенадцати часов ночи. Карточку с моим адресом позвольте вам вручить… До свидания…
Он поклонился и вышел.
XIII
Если человеку завязать глаза, ввести его в темную комнату и, покрутив его вокруг себя за руки, потом снять с него повязку, он, хотя бы комната была его собственным кабинетом, теряет представление об ее пространстве и, думая идти к письменному столу, упирается в зеркало; воображая переступить порог, больно ушибает колено о книжный шкаф и т. п. Тьма одуряет его, сбивает с толку. В такую сбивчивую, полную ошибочных представлений и досадных призраков тьму поверг Людмилу Александровну разговор с Ревизановым. В уме ее быстрым потоком бежали мысли самозащиты, но все пугливые, неясные, спутанные, и на сердце лежал камень.
«Этот человек – точно колдун, – думала она с содроганием, – он вынул у меня что-то из головы, и все пошло в ней кругом, без порядка, без самоотчета…»
Главное, она никак не могла разобраться: насколько действительно и опасно обвинение, повисшее над ее головою. То казалось, что она совсем пропала, безвыходно и безнадежно, то – что и бояться нечего, и опасности никакой нет и не было, и угрозы Ревизанова – не более как дерзкое хвастовство нахального человека, рассчитанное на впечатлительные женские нервы.
«Я женщина, – соображала она, – Ревизанов запугал меня, – вот воображение и разгулялось, и пошло строить Бог весть какие мрачные воздушные замки, а на самом деле они – карточные домики!.. Чего бояться?.. Как искусно ни представит Ревизанов обществу свой гадкий план, он все-таки остается шантажом. Шантаж – орудие страшное, но обоюдоострое. Общественное презрение клеймит шантажиста еще глубже, чем его жертву. Есть ли расчет Ревизанову, в его блестящем, видном положении, замарать вместе с моим и свое имя? Ведь не думает же он, что – доведенная до позора и отчаяния, когда мне нечего будет терять – я все-таки пощажу его и не обличу в свою очередь в глазах света всей его подлости, всех его наглых вымогательств?!»
Во вторник Иаков Иосафович Ратисов справлял день своего рождения. Верховская чувствовала себя совсем нездоровою, однако надо было ехать к Ратисовым и встретиться у них с Ревизановым, – как знала Людмила Александровна, – приглашенным Олимпиадою Алексеевною к обеду.
«Непременно приедет! – злобно соображала Верховская. – Не пощадит… С тем и приедет, чтобы посмотреть, в каком я настроении, – вовсе покорена или еще сопротивляюсь?»
Ревизанов действительно обедал у Ратисовых и остался на вечер. Однако Людмила Александровна ошиблась: на этот раз он не хотел ее мучить – раскланялся и затем мало что не замечал ее весь вечер, но даже сам как будто уклонялся попадаться ей на глаза, старался как можно меньше утомлять собою ее внимание. У Ратисовых было очень шумно. Синев был в духе и все дразнил юношу – сына Людмилы Александровны. Митя переваливал из подростков в молодые люди, – и комическая смесь в этом хорошеньком мальчике детской наивности и уже мужских манер смешила до упаду Петра Дмитриевича и Олимпиаду Алексеевну, которую Митя втайне обожал, как только может обожать семнадцатилетний мальчик красивую родственницу бальзаковских лет.
– Знаешь ли, Митя, что я тебе, в некотором роде, бабушка? – изумлялась сама на себя Ратисова.
Синев комически запел:
– Жил-был у бабушки
Серенький козлик…
Остались у козлика
Рожки да ножки!
– К чему это ты?!
– К просвещению юношества, – трунил Синев, – надо же предостеречь молодого человека, что бывает с козликами, у которых есть такая бабушка!
Митя конфузился и краснел: юное воображение, давно уже и сильно занятое великолепною Олимпиадою, привело его в последние дни к тому трагикомическому переходному состоянию влюбленности, что знакомо только совсем зеленым мальчикам, – когда не знаешь: не то уж очень любишь женщину, не то терпеть ее не можешь, мечтаешь о ней и дичишься ее, видишь ее каждую ночь во сне, а наяву, завидев ее издали, переходишь на другую сторону улицы, чтобы только не раскланяться с нею… Синев видел состояние юноши и – по страсти к зубоскальству, которым был хронически одержим, – издевался над ним неистово, когда мог рассчитывать, что Людмила Александровна не услышит. Она не любила, если Митю дразнили вообще, а уж в особенности на любовные темы.
– Вбиваете Бог знает что в голову семнадцатилетнему мальчику! Ему рано и думать о таких пошлостях, – сердилась она. – Вам с Липою смешки, а он волнуется… Я вот перестану его пускать к Ратисовым! Я заметила: как он побывает у Липы – на другой день обязательно принесет двойку из гимназии… И, главное, кто бы дразнил!.. Сами-то вы, Петенька, давно ли обсушили молоко на губах? Я еще не забыла, как вы воровали у меня ленты на память… да и у Липы тоже!
– Было! – сокрушенно восклицал Синев и оставлял Митю в покое, до первого нового искушения.
Олимпиада Алексеевна была уже в том возрасте, когда подобное полудетское ухаживание особенно льстит и нравится.
– Тетушка, – шептал ей Синев, – Митяй смотрит на вас исподтишка. Ну-ка, поддайте ему жару!.. Метните парфянскую стрелу!..
– Ах, какой ты дурак! – смеялась Олимпиада Алексеевна, но тем не менее бросала на юношу такой томный взгляд, что Митя не знал, куда ему деваться, и искренно жалел, что паркет не разверзается под его ногами и не поглощает его, как оперного Демона.
А Синев хохотал:
– Тетушка! Вы не Олимпиада! Вы Иродиада!
– Это почему?
– Младенцев избивать стали!
– Да отстань же ты от меня! – кричал Митя на своего мучителя, доведенный до полного исступления. – Все твои выдумки и насмешки! Я и знать-то ее не хочу, и совсем она мне не нравится… Ты все врешь на меня! врешь! врешь! врешь!
Синев с невозмутимостью поучал:
– Во-первых, ты невежлив со своим добрым, старым дядею, – замечаешь ли ты это, о школьник? А во-вторых, врешь-то ты, а не я. Нас, брат, на мякине не проведешь: мы старые воробьи. И от судьбы своей также не уйдешь. И верь мне, как турка Магомету: никто другой, как Липа, и есть твоя Судьба. Вы, молокососы, самой природой устроены и предназначены для развлечения таких сорокалетних пожирательниц мужчин, в промежутке, когда у них день прошел, а вечер не наступил. Поэтому советую приготовиться к капитуляции: пиши в честь ее стихи, воруй ее ленты и носовые платки, выпроси на память прядь ее золотых… гм, гм! с серебрецом кудрей и прочая и прочая, и да будет над тобою благословение любящего тебя дяди!
Сегодня мальчик что-то хмурился, и Синев пристал к нему, уверяя, будто он не в духе оттого, что Олимпиада Алексеевна слишком ухаживает за Ревизановым…
– А на тебя, Митька, – нуль внимания…
– Ну и отлично! ну и очень рад! и оставь меня… – бормотал юноша. – Тебе только бы дразниться!
– Однако сознайся, ты не в духе.
– Хотя бы и не в духе!
– Отчего?
– Что тебе за дело?
– Не отстану, пока не скажешь…
– Ах, Господи! да просто так!
Синев с важною грустью качал головою:
– Мне «так» мало. Это не ответ, но абракадабра. В твои годы слово так переводится на русский язык двояко: или кол за Цицерона, или огорчение в нежных чувствах. Ну! кто виноват: Марк Туллий или тетя Липа?
– Ах, дядя! – вырвалось у Мити, – как можно надо всем смеяться? есть же, наконец, чувства…
– Ага, уже есть чувства! Браво, Митя! мне только того и надо было… Тетушка, пожалуйте сюда: у Мити завелись чувства, которые он желает вам изъяснить…
– Дядя Петя! Я тебя убью!
– Не стоит, Митяй. Убивать, так уж кого-нибудь другого. Замечаешь? Я зову, а она даже не слышит. Прицепилась репейником к своему Ревизанову…
– И что она в нем нашла? – горестно вздыхал Митя. – Только что капиталист.
– Да. А ты – только что гимназист. В том, главным образом, между вами и разница. И вот что скверно: замечено учеными, что женщины гораздо чаще предпочитают капиталистов гимназистам, чем наоборот. Знаешь что? Вызовем-ка его на дуэль?
Митя смотрел маленьким Наполеоном и отвечал:
– А ты думаешь, я не способен?
Втайне Синев находил, что – вполне способен. Мальчик был романтический и яркий. Еще в третьем классе гимназии он убежал было из дома в Америку, к индейцам. Ушел недалеко: нагнали и сцапали его, раба Божия, за Тверской заставою, но он встретил погоню как врага, защищался, как тигренок, и даже пустил было в ход оружие: пырнул товарища, выдавшего план бегства, перочинным ножом.
– Вот ты все надо мной смеешься, – изъяснял он как-то раз Синеву в дружескую минуту, когда тот был в кротком настроении духа и не очень травил его. – А я… я даже Добролюбова читал. Ей-Богу. И все понял. Хоть весь класс спроси. Уж я – такой. Я могу понимать: у меня серьезное направление ума. Ты дразнишь меня, что я влюблен там и прочие глупости. А я – такой: любовь для меня величайшая надежда и сила. Я не умею шутить любовью. У меня чувства. Я не понимаю легких отношений к женщине.
– То-то ты смотришь на тетушку Липу таким сконфуженным быком.
Но Митя не слушал, задумчиво смотрел в пространство и твердил:
– Я ведь в маму родился… Люблю папу, но я не в него, а в маму… Я, коли что, – на всю жизнь. У меня это просто. Весь класс знает…
– Ты что же, Олимпиаду-то на необитаемый остров увлечь, что ли, собрался? Так не поедет, поди… А любопытно бы посмотреть тебя Робинзоном, а ее Пятницею. Впрочем, какая же она Пятница – целая Суббота!
Юноша горько улыбался, презрительно пожимал плечами и декламировал из «Горя от ума»:
– «Шутить и век шутить – как вас на это станет?»
Другою постоянною жертвою, отданною на произвол Синева, являлся супруг Олимпиады Алексеевны – Иаков Иоасафович, с его почти маниакальною страстью к истинно стенобитным каламбурам, шарадам, юмористическим стихам…
– Поедемте, Иаков Иоасафович, пообедать в новый ресторан: говорят, хорошо кормят, – приглашает Ратисова приятель, а Иаков Иоасафович ошеломляет его в ответ:
– Почему же в ре-сто-ран, а не в до-двести-язв?!
Однажды Синев, заспорив о чем-то с Олимпиадою Алексеевною, воскликнул:
– Бог с вами, тетушка! «Переклюкала ты меня, премудрая Ольга», как говорил, попав впросак, один греческий царь… Я уступаю и отступаю…
Он попятился и отдавил ногу стоявшему прямо за ним Ратисову.
– Ох, – застонал этот, – если это называется у вас отступать, то каково же вы наступаете?
– Виноват, дядюшка.
– Бог простит, – со снисходительным величием извинил добряк и таинственно подмигнул. – А каламбурчик заметили?
– Прелесть! – восторженно воскликнул Синев. – Вы всегда такие родите или только когда вам наступают на мозоль?
– У меня юмор брызжет!
– Вы бы в юмористические журналы писали? а?
Ратисов замигал еще таинственнее:
– Пишу.
– Ой ли? – восхитился Петр Дмитриевич. – И ничего, печатают?
Иаков Иоасафович самодовольно подбоченился:
– С благодарностью.
– Скажите!
– Ценят. Вы, говорят, ваше превосходительство, юморист pur sang, а нравственности у вас – что у весталки. Вы не какой-нибудь борзописец с улицы, а патриций-с, аристократ сатиры. Эдакого чего-нибудь резкого, с густыми красками, слишком смешного, но семейного у вас – ни-ни!
– Под псевдонимцем качаете?
– Разумеется. «Действительный юморист» – это я. Я было хотел подписываться: «Действительный статский юморист», эдак слегка намекнуть публике, что я не кто-нибудь, не праздношатающий бумагомаратель, но цензура воспретила, оставила меня без статского… Знаете: детей оставляют без сладкого, а меня без статского… Мысль! позвольте карандашик: запишу, чтобы не забыть, и разработаю на досуге.
Синев, конечно, не замедлил разболтать этот разговор Олимпиаде Алексеевне, и с тех пор бедному каламбуристу не было житья от жены: она походя дразнила его то действительным статским юмористом, то действительною статскою весталкою.
XIV
Степан Ильич Верховский принадлежал к числу тех добрых, но ограниченных людей, кому, если западет в ум какая-нибудь идея – хорошая, дурная ли, – то становится истинным их несчастием: они никак не могут выбить ее из головы и носятся с нею, как курица с яйцом. Ревизанов очень нравился Степану Ильичу, и в то же время, по честности и доброте своей, старик был возмущен до глубины души убеждениями, высказанными блистательным капиталистом в разговоре их на обеде у Верховских. Разговор этот не давал покоя Степану Ильичу, и он не раз с тех пор возвращался к этим темам в своем семейном кружке.
– Нет-с, каков век! каковы стали субъекты появляться! – воскликнул он. – Симпатичный, порядочный человек, корректный общественный деятель, благодетель громадного рабочего округа, – и совершенно разбойничьи убеждения!.. Царство страсти! Страсть – главный императив человеческого существования! Да ведь это – хаос, это – конец цивилизации-с… Ци-ви-ли-за-ции!!! Митька! если ты когда-нибудь заразишься подобными взглядами, я… я лучше в могилу сойду, чтобы глаза мои тебя не видали! Долга не признавать, общественных начал не чувствовать… Господи, да как же жить-то без этого?.. В отчаяние прийти можно: неужели мы жили, работали, идеальничали для того лишь, чтобы народились на свет такие страшные люди и принесли в мир такое звериное учение?
Когда Ревизанов остался у Ратисовых на вечер, Верховский так в него и вцепился. Андрей Яковлевич защищал свое «царство страсти» шутя и, по обыкновению, немножко свысока… Синев вмешался. Он с начала вечера косился на Ревизанова.
– Все это прекрасно, Андрей Яковлевич, – протяжно сказал он, – теории можно разводить всякие, и, на мой взгляд, Степан Ильич напрасно столько горячится из-за ваших шуток…
Ревизанов поднял брови.
– Шуток? – возразил он.
– Разумеется, шуток. В ваших устах анархические теории звучат шуткою больше, чем в чьих-либо других.
– Ах, вы вот куда метите! – Ревизанов засмеялся. – А знаете ли, Петр Дмитриевич, я уже не раз задумывался над этим странным для вас совпадением взглядов.
– И?
– И пришел к убеждению, что оно вовсе не странно. Взгляды совпадают, потому что совпадают цели. Только средства разные, а в сущности, и капиталист, как я, и анархисты заняты одним и тем же делом: разрушают ваше общество и уничтожают вашу цивилизацию.
– Ого!
– Да, да! Анархист работает во имя отвлеченных идеалов уравнения человечества; капиталист работает на свой собственный карман, а толк-то один и тот же. Если не в идейных целях, – это я вам уступаю, – то в практических конечных результатах. Они же выражаются в короткой теореме: «Чтобы сравнять общество, надо уничтожить его современный строй, возвратить его к первобытным образцам». Затем разница лишь в способах доказательства теоремы: в средствах. Анархист хочет уравнять всех, опрокинув мир к первобытной дикой свободе. А на взгляд капиталиста, удобнее уравнять людей, возвращая их понемногу в первобытное же состояние рабства. И так как полной свободы и равенства никогда нигде нет, не было и не будет, то всегда тот, кто будет равнять общество, будет и его повелителем. Если он станет на первое, повелевающее место во имя анархических теорий свободы – он повелитель-обманщик; если он равняет общество, порабощая его для себя, он лишь последовательный деспот. Вот и все.
– Софизмы! софизмы! и слушать не хочу: изношенные софизмы! – закричал Степан Ильич.
Синев молчал.
– Пока ваше царство страсти, – начал он, – остается в мире теории, еще куда ни шло, нам, обыкновенным смертным, можно с грехом пополам жить на свете. Но скверно, что из этой теоретической области то и дело проскальзывают фантомы в действительную жизнь…
– А вы их ловите и отправляйте в места не столь и столь отдаленные, – возразил Ревизанов. – Это ваше право.
– Сами вы говорили давеча, что всех не переловишь.
– А не поддаваться – это их право.
– Иного и схватишь, – нет, скользок, как угорь, вывернется, уйдет в мутную воду. Закон – дело рук человеческих, а преступление, как изволите вы совершенно правильно выражаться, дело природы. Закон имеет, следовательно, рамки, а преступление нет. Закон гонится за преступлением, да не всегда его догоняет.
Он задумался и бросил на Ревизанова странный взгляд.
– Да вот вам пример: вчера я слышал одну историю… попробуйте-ка преследовать ее героя по закону.
– Если что-нибудь страшное, – крикнула через комнату Олимпиада Алексеевна, отрываясь от разговора с Митей, – не рассказывай: я покойников боюсь.
– Дело на Урале, – начал Синев.
– Знакомые места, – отозвался Ревизанов.
– Герой – местный Крез, скучающий, хотя и благополучный россиянин… из любимого вами, Андрей Яковлевич, типа людей страсти и личного произвола.
– Проще сказать: самодур, – вставил Верховский.
– Только образованный, заметьте, – поправил Петр Дмитриевич.
Ревизанов насмешливо смотрел на них обоих:
– Есть там такие. Ну-с?
– Скучал этот Крез, скучал, да и надумался, развлечения ради, влюбиться в некоторую барыньку, – заметьте! жену довольно влиятельного в тех местах лица… Барынька оказалась не из податливых. Крез поклялся, что возьмет ее во что бы то ни стало, и начал орудовать, – да ведь как! Супруг упрямой красавицы до тех пор отлично шел по службе, а теперь вдруг, ни с того ни с сего, запутался в каких-то «упущениях», попал под суд и вылетел в отставку с запачканным формуляром; в обществе пошли гадкие слухи о поведении молодой женщины, и, что всего страннее, произошло несколько случаев, подтасовавших как бы некоторое подтверждение грязным толкам. Репутация несчастной была убита, семейная жизнь ее превратилась в ад, знакомые от нее отвернулись, муж вколачивал жену в гроб несправедливой ревностью, родные дети презирали мать, как развратную тварь…
– Ах! – раздалось болезненным стоном от полутемного – за трельяжем – угла, где в качалке приютилась Людмила Александровна.
– А?.. что?.. – встрепенулся Синев. – Это вы, кузина?
Людмилу Александровну окружили. Но она, почти с досадою, что сделалась предметом общего внимания, просила оставить ее в покое.
– Это ничего… не обращайте на меня внимания: так… приступ мигрени… мигрени…
– Ну, а конец-то, – торопила Синева Олимпиада Алексеева, – конец-то твоего романа? Начало – хоть бы Габорио.
– А конец, тетушка, хоть бы Зола. В один прекрасный вечер, горемычная барынька, после ужасной семейной сцены, ушла, в чем была, из дома и постучалась-таки… к Крезу!
– Что и требовалось доказать, – вполголоса закончил Ревизанов, как бы и с дружелюбною даже насмешкой.
Прошла полоса молчания.
– Вот видите, Андрей Яковлевич… – поучительно и торжествуя, заговорил Степан Ильич.
Ревизанов перебил его:
– Виноват. Позвольте, господа! чего вы от меня хотите? Чтоб я осудил этот поступок? Осуждаю… Но ведь я и не утверждал, что люди страсти – хорошие люди. Я только говорил, что это люди, которые хотят быть счастливыми, умеют брать с бою свое счастье и ради его на все готовы…
– На все?
Людмила Александровна поднялась с места с болезненным и растерянным видом, точно хотела заговорить и не решалась.
– Я раньше слыхал вашу историю, Петр Дмитриевич, – продолжал спокойно Ревизанов, бросая впервые за весь вечер внимательный взор на Верховскую, – и хорошо знаю ее не названного вами героя…
– Медный лоб! – прошептал Синев, против воли опуская глаза.
– Это действительно упрямый и страстный человек… Виноват! вы что-то хотели сказать, Людмила Александровна, и я помешал вам?
– Я хотела спросить, – слабо сказала она, – а совесть?.. совесть упрекает его хоть когда-нибудь?..
Ревизанов задумался; потом, отразив ее печальный и ему одному понятно моливший о пощаде взгляд блестящим и решительным взглядом, коротко ответил:
– Не думаю.
Всем было не по себе. Все чувствовали, что нельзя продолжать разговора. Атмосфера насыщена электричеством, почва общих рассуждений и примеров истощена, назревает экзамен личностей, стычка, злоба и ссора. Олимпиада Алексеевна, золотой человек в таких трудных случаях, выручила.
– Скучная твоя история, Петя! – воскликнула она. – Я думала, он ее убьет, или она его, или муж их обоих.
Синев отозвался:
– Да вы же покойников боитесь?
– Я только утопленников, да и то, если в воде долго пробыл, а когда револьвером – ничего, даже интересно.
– Жест красив?
– Вот именно!
Мужчины подхватили, и буря разошлась без молнии и грома – сперва безразличною болтовнёю, потом винтом.







