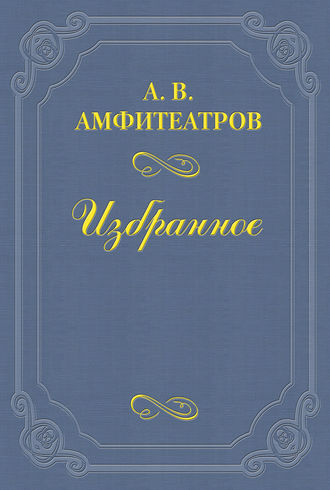
Александр Амфитеатров
Отравленная совесть
VI
Елене Львовне было шестнадцать лет, когда старшая сестра ее Лидия, яркая звезда петербургского большого света сороковых годов, вышла замуж за Александра Григорьевича Рахманова, молодого неслужащего дворянина с опасною репутацией «заграничного умника» и «красного». Так как мой отец пользовался своей репутацией не совсем незаслуженно, то, вскоре после свадьбы, ему пришлось надолго поселиться в деревне, на положении близком к ссылке. Из уездной глуши стали доходить к родным слухи о неладном житье молодых супругов. Моя мать, гордая, страстная женщина, кляла в своих письмах судьбу, связавшую ее неосмотрительным браком с неподходящим человеком. Она не уставала взводить на мужа разнообразные обвинения, и вот среди родни и друзей дома Алимовых начало слагаться представление об Александре Рахманове, как о чудовище вроде Рауля Синей Бороды: он терзает жену непомерной ревностью, держит ее взаперти, препятствует ей в самых невинных развлечениях и т. д. Поэтому, когда, года через три, Елена Львовна ехала гостить к сестре, она смотрела на свое путешествие, как на подвиг, мечтала облегчить своим приездом участь Лидии, доставить ей, в своем лице, подругу и наперсницу тяжелого семейного горя.
Но, вместо деспота мужа, Елена Львовна, к крайнему своему удивлению, нашла в моем отце добродушного, кроткого, немного вялого человека, вполне покорного жене, глубоко несчастного в браке и все-таки не возроптавшего на свое несчастье. Вместо угнетенной жены – нашла капризную самовластную женщину, в которой трудно было узнать прежнюю живую, эксцентричную, вспыльчивую, но ласковую Лидию Алимову. В доме и именье шла полная неурядица. «Не раздражать барыню!» – было единственным твердым правилом в быту Рахмановых, и барыню точно не раздражали, угождая ей с рабской покорностью во всех ее выдумках и затеях. А выдумки часто выходили за пределы всякого разума и приличия. Рахмановская усадьба была каким-то постоялым двором для губернской молодежи: гости не переводились в доме – дневали и ночевали, ели, пили, вели игру, ухаживали за красавицей хозяйкой, которой, по-видимому, очень нравилось это бесшабашное житье. Странность семейного склада Рахмановых заставила Елену Львовну объясниться с зятем начистоту. Она была возмущена и сильно горячилась:
– Как вам не стыдно?! Как вы допускаете и терпите такую сумятицу в своем быту? Что это? равнодушие? – так нет же! Вы любите Лидию: по вашему лицу видно, как вы страдаете…
– Допускаю и терплю, потому что прекратить не в моей, да и не в ее воле! – возразил мой отец.
– Как?! Я вас не понимаю… Подумайте: чем же кончится все это?
– А вот чем: пройдет припадок разгула, и Лидия сама положит конец этому безобразию, впадет в покаянный стих, станет молиться по целым дням, плакать, истязать себя веригами… Какой припадок хуже – этот или покаянный – уж и не знаю! Судите сами.
– Боже мой! Значит, Лидия…
– Душевнобольная! К сожалению, это несомненно, Елена Львовна, – сознался отец и заплакал.
Елену Львовну как громом ударило. Она не могла не поверить: душевнобольные встречались почти в каждом поколении рода Алимовых, а Лидия была не без странностей уже в детстве. Александр Григорьевич рассказал, как мог, историю недуга жены, созревшего в невольном провинциальном уединении. Однообразие жизни возбудило в молодой женщине жажду новых ощущений, заставило броситься очертя голову в омут первых представившихся незатейливых развлечений; почти невольно она изменила мужу: раскаявшись, сама рассказала ему свой грех и молила о прощении, а прощенная, стала презирать мужа за великодушие, показавшееся ей либо отсутствием любви, либо неприличною для мужчины слабостью. Презирая мужа, ненавидя себя, она искала забвения то в разгульных пирушках, то в преувеличенно-усердной молитве и чуть не аскетических подвигах. Сперва папа жестоко негодовал на жену, позорившую его имя, но мало-помалу убедился в полной непроизвольности ее поступков, примирился с роковым ударом, начал ее лечить… повез за границу, развлекал… О широкой жизни их в Париже ходили громкие легенды. В свои светлые промежутки мама блистала остроумием, образованием; о ней говорили, как о выдающейся звездочке среди парижских esprits forts[8]; тогда-то и целовал ей руки Гейне, и – проездом – написал романс Глинка… Но светлые промежутки видели только посторонние, а весь ужас припадков неизлечимой болезни падал свинцовою тяжестью на моего отца. Он нес эту тяжесть втихомолку, один-одинешенек – и впервые не вытерпел, поделился ею с Еленою Львовною… И вот, вместе с ужасом пред его горьким признанием, в душе Елены Львовны зародилась первая искра любви к моему отцу. Ей стало жаль нежного, честного сердца, истерзанного поруганною любовью, своим позором, горькою смесью презрения и сострадания к виновнице своего несчастья, все еще страстно любимой, вопреки всему, и – главное – состоянием полной безвыходности положения.
Когда скончался мой дед, Лев Андреевич Алимов, папа назначен был опекуном Елены Львовны, и с тех пор она не расставалась с нашим домом. Мама немногим пережила дедушку. Отец, убитый потерею жены, словно обезумел и, равнодушный ко всему на свете, не жил, а вяло влачил едва сознательное существование.
Уходу и заботам Елены Львовны папа был обязан своим возрождением. Тетя полюбила моего отца, неся целебную помощь его больному сердцу; он полюбил ее, принимая ее сострадание. «Она его за муки полюбила, а он ее – за состраданье к ним». Они объяснились… Вдовец от одной сестры, папа не имел права жениться на другой. Тогда-то тетя Елена разбила свою жизнь коротким приговором: «Покоримся необходимости. Нельзя идти против Бога». Напрасно папа доказывал, что закон можно обойти. Елена Львовна стояла на своем.
– Что мне в том, если вы сделаете наш брак законным в глазах людей, когда он останется непризнанным церковью и нами самими?
– Но ведь церковь даст нам свое благословение. Я найду священника…
– Да я-то не приму благословения от священника, который способен обманывать свою церковь, подделывать ее обряды… Не возражайте, Александр Григорьевич: вы не поймете меня: вам все равно, верите ли вы в Бога и церковь, а для нас, Алимовых, наша вера – наша совесть. Раскаемся, Александр Григорьевич, и – прочь от греха! Я не могу быть вашею женою… а ничем другим не хочу быть: гордость не позволяет… Простите меня!
Папа отвечал упреками:
– Вы не любите меня и никогда не любили. Вы просто развлекались от скуки платоническим романом. Вы обманули меня!
Елена Львовна смертельно побледнела, но – слишком гордая для оправданий – повторила:
– Я виновата, Александр Григорьевич. Простите меня!
А в ночь после этого разговора, над прудом нашего деревенского сада, долго стояла темная женская фигура. И люди, и природа давно спали крепким сном, убаюканные теплою лаской светлой весенней ночи, а женщина, одинокая, неподвижная и безмолвная, все стояла, сурово глядя в темное ложе пруда, слушала порывистый стук сердца в своей груди и думала, что это сердце разбито и ей надо умереть. Но младенческий образ девочки-сиротки пролетел пред ее глазами и остановил ее в роковом шаге… тетя Елена посвятила свою жизнь мне. Никогда после не напоминала она Александру Григорьевичу о былой заглушённой страсти. Что касается самого отца, все его попытки вернуться к вопросу неудавшейся любви разбивались о холодное молчание Елены Львовны. Года через два папа уже не делал и попыток: он привык видеть в Елене Львовне только добрую родственницу и, махнув рукою на недавнее прошлое, был уверен, разумеется, что и тетя поступила так же.
VII
– Да, говорила тетя Елена, – волнение улеглось, страдание притупилось; любовь не забылась, но перелилась в дружбу… нет, дружба – это мало… во что-то теплее, участливее. Ах, не легко далось мне это, но все-таки далось!.. Моя привязанность к тебе все росла и помогала мне в моем грустном пути. Пытка старого девства началась уже много позже.
Александр Григорьевич – увлекающийся человек. Он любил меня; потом, не встречая явного сочувствия, стал холоднее. Случалось ему, на моих глазах, влюбляться в других женщин. Сперва он конфузился этих неожиданных «измен» мне – своей «вечной любви», как неосторожно поклялся он когда-то и сам было поверил невозможной клятве. Он совестился меня, страдал, скрывался, обманывал, но ты знаешь своего отца: он не в состоянии провести и ребенка, – где же ему обмануть любящую женщину? Потом, уверясь, что я если не знаю его «измен» в точности, то, однако, догадываюсь о них и все-таки не возмущаюсь, и он сделался откровеннее… Суди сама, легко ли было мне оставаться спокойною свидетельницею целого ряда мелких увлечений любимого человека. Ах, эти идеалисты! С ними женщине горе – не лучше, чем с развратниками. У них – вот какие большие глаза на нас. Всякая смазливая рожица, которая им улыбнется, – уже Психея; каждая не совсем глупая, не вовсе злая девчонка – уже небесная душа… Но, да что распространяться! Дело говорит лучше слов: уж если Александр Григорьевич умудрился идеализировать даже Липу, – Филину из «Вильгельма Мейстера» она ему напоминала, видишь ли… радость, нечего сказать! – ты понимаешь, сколько подобных идеализаций пришлось мне перестрадать, прежде чем Бог наказал нас этим проклятым браком… Но я не считала себя вправе возражать и вмешиваться в ход жизни Александра Григорьевича. Что же? Раз я отказалась от его любви, – он человек свободный, обязанностей ко мне у него нет. Я только отвела свое сердце от него, – такого, каков он есть, – и стала любить его вдвое больше таким, каким раньше создало его мое воображение, каким – по-моему идеалу – следовало ему быть. А я тем сильнее любила свой идеал, чем больше исполнялась, про себя, ревнивою обидою к его носителю… обидою, может быть, недостойною и неправою: грешно требовать, чтобы человек, во имя одной неудавшейся любви, отказался воскресить свое сердце другою! Только эту – Липу – я была не в силах извинить ему, потому что она – животное, и кто любит ее, сам обращается в животное. Видеть же, как любимый человек оскотинивается и как торжествующая самка попирает его ногами… не дай Бог никому – самой худшей женщине, даже Липе этой, не пожелаю я такого горя, Мила!
Итак, я стала одинокою. Никому не было дела до меня, ни мне ни до кого. Я заключилась в своем больном чувстве… да в тебе, чужая дочка, дитя мое милое! Не будь тебя, не по силам было бы мне помириться с отказом от брака. Я рождена быть матерью и воспитательницей! Да и есть ли женщина – нормальная телом и духом женщина, – которая искренно чувствовала бы себя рожденною для других задач и целей? Это – главное в женщине, это – вечное; все остальное – постороннее, временное, преходящее, как век мира сего. Бог создал нас, чтобы мы обновляли земные поколения. Женщина может забывать о том, отстранять от себя и брак, и материнство, может заглушать, маскировать и заслонять от себя истинное свое назначение другими человеческими целями; но уйти от него не может и никогда не уйдет: некуда. Ты изумилась, выслушав проклятие девству от меня, гордой, целомудренной Елены Алимовой… О, Боже мой! Когда бы ты знала эту, ужасную в своей бесцельной неправоте, борьбу духа с телом. Могла ли бы ты верить, что под моей маской бесстрастия поднимались порывы такой дикой чувственности, что временами мне казалось – лишь самоубийством я могу спасти себя от падения, позорного, унизительного падения без любви… падения ради падения? Поверишь ли ты в бессонные ночи, полные жгучей тоски полупонятных желаний, в страстные сны, откликавшиеся своими призраками на все, и духовное и плотское, что книги и воображение подсказывали мне в слове «любовь»? Оценишь ли ты горе видеть бесплодно отцветающим свое тело? Сказать ли тебе, что бывали дни, когда я ненавидела память покойной Лидии, от зависти, зачем ты – ее, а не моя родная дочь? А годы, когда я решилась сознаться, что напрасно исказнила себя? когда, в досадах на обидную действительность, стал меркнуть мой идеал? когда я со стыдом убедилась, что если Александр Григорьевич равнодушен ко мне, то время сделало свое дело и надо мною, и моя любовь из упорства неудовлетворенной страсти обратилась в упорство самолюбия, оскорбленного ранним охлаждением взаимного чувства в любимом человеке?.. Холодность – там, самолюбие – здесь… казалось бы, все кончено. Но нет: а обида-то? – Во имя чего же я принесла свою бесплодную жертву, если она, еще недавно принимаемая мною за подвиг, теперь, простою силою давности, обратилась в жестокую бессмыслицу в моем же собственном мнении? Трудно, Милочка, обвинять себя в своем же несчастье, да еще несчастье целой жизни. Кажется, вот и сердце, и ум согласились уже: «Ты сама отказалась от счастья и добровольно обрекла себя зачем-то на пытку. Себя и вини! Никто другой не становился тебе поперек пути, напротив, были добрые люди, еще указывали тебе дорогу к счастью!» А червь себялюбивый все-таки копошился в глубине души, и так и хочется подыскать источник своего зла во внешнем мире, оправдать себя насчет других… Тебя не поняли, тебя обидели; мир зол, глуп, отвратителен… Начинаешь понимать удовольствие сорвать зло, втягиваешься в эту жестокую самозабаву; временами является даже жажда быть оскорбленною, чтобы иметь право злиться: ведь если без повода-то бывает потом так совестно пред самою собою! Сколько друзей я представляла врагами себе, сколько дружб растеряла, сколько врагов нажила. Ты знаешь, я не глупа. Но я мало занималась своим «я»; в юности нас учили – Бог знает, к добру или к худу! – больше интересоваться своими отношениями к людям нашего общества, чем рыться в своей душе. Но горе углубляет человека в себя, и в моей девической трагикомедии не укрылась от моего разбора ни одна черта. Сколько дурного, темного – такого, за что мне делалось стыдно в следующее же мгновение, – передумала и перечувствовала я в эти годы! Сколько я завидовала, ненавидела, презирала, сколько терзалась и злобилась! Я достаточно честна, чтобы стыдиться таких движений больного духа, и достаточно сильна, чтобы скрывать их. Выдержка-то есть: на то я и Алимова. Мы, Алимовы, люди долга, а не прихотей. Все считали и считают меня живым опровержением на ходячее представление о старой деве. Ложь! Когда бы люди знали, каким египетским трудом выработана моя маска доброты, спокойствия! Я добра, потому что должна и могу заставить себя быть доброю, а не потому, что я хочу.
Теперь мне лучше. Сорок лет – бабий век. Женщина во мне умирает… тело вянет… дух стал свободнее, мысль чище… Но до этого!.. Боже мой!
Ах, Людмила, не ругайся над плотью! Она покоряется, но и в порабощении жестоко мстит за себя. Если ты любишь себя, если ты хочешь испытать в жизни хоть несколько мгновений чего-то похожего на счастье – будь женою и матерью! Выходи замуж. Ты заранее преступница пред своим будущим мужем, кто бы он ни был. Он уже обманут тобою, и ты заранее осуждена тянуть этот старый обман всю жизнь, до могилы. Стыдно это, подло, ужасно… тяжело и мучительно дастся оно тебе! Дурно, позорно с моей стороны убеждать тебя к этому, – да что мне теперь до позора! Мой позор со мною и останется; мой позор – мое и покаяние. Я так люблю тебя, я должна спасти тебя – спасти именно от того, чтобы ты не прошла сквозь унылые мытарства моей «завидной» жизни… Мне жаль, мне жаль тебя!.. Выходи замуж. Обманывай и страдай от обмана, но лучше десять обидных тайн, десять обманов на совести, чем тоска и каторга старого девства!
* * *
Дочитав рукопись до конца, Людмила Александровна откинулась в глубь кресла и, прижавшись затылком к холодной кожаной спинке, глубоко задумалась. В ровном матовом свете лампы, неподвижная, с бледным лицом и широко открытыми черными глазами, она казалась скорее картиною какого-нибудь меланхолического мечтателя-художника, чем живым человеком… Часы пробили два… Людмила Александровна встрепенулась, вздохнула, провела рукою по лбу и, придвинув к себе рукопись, взялась за перо… На последнем, оставшемся чистым в тетради листке она написала следующее:
«Пятнадцать лет тому назад я, уже замужняя женщина, в минуту очень тяжелого настроения, полная угрызений совести пред мужем, неповинно мною обманутым, спросила моего друга, литератора Сердецкого:
„Аркадий Николаевич! что делать человеку, если у него на душе есть тайна, которую нельзя сказать людям, а между тем она душит его, сводит с ума, отравляет ему каждую мысль, каждый кусок хлеба?..“
„Парикмахер доблестного царя Мидаса, – шутливо отвечал Сердецкий, – в таком казусном положении доверил свой секрет ямке, вырытой в болоте. Но на болоте вырос тростник, и шепот его рассказал всему миру, что у царя Мидаса – ослиные уши. Тайна – если есть потребность ее рассказать – уже не тайна, Людмила Александровна“.
„Но что сделали бы вы на месте такого человека?“
„Вероятно, заперся бы в своем кабинете, взял лист бумаги, написал на нем все, что меня давит, и потом запер бы написанное в самый потайной ящик своего письменного стола… Бумага менее разговорчива, чем тростник в царстве Мидаса… Недаром же про нее говорят, будто она все терпит. А поделиться своею бедою, хоть с бумагою, – конечно, большое облегчение. „В минуты жизни трудные“ я перечитывал бы свою рукопись, вносил бы в нее новые подробности, поправки, и, вероятно, в конце концов из нее вышла бы весьма недурная вещичка во вкусе входящих теперь в моду психологических этюдов“.
Я приняла совет Сердецкого и написала тогда эту рукопись. Пятнадцать лет пролежала она в бюро, и ни разу не потянуло меня пересмотреть ее, ничто не вызывало меня снова пережить и перечувствовать ее содержание. Прочитала сейчас и вижу, что мне нечего добавить к своему рассказу, а что было после – уже не тайна и укладывается в два слова. Тетя Елена настояла, чтобы я вышла замуж за Степана Ильича Верховского. Он сумел сделать наше супружество счастливым и обратить в привязанность мое уважение к нему… Я употребила все усилия воли, чтобы быть достойною женою своего мужа – и, кажется, успела в этом. За восемнадцать лет брака мы не имели ни крупных ссор, ни обидных недоразумений и сомнений друг в друге. Дети наши – прекрасные дети. Тайна моего девичьего стыда умерла в этом браке. Тетя и Ревизанов были единственными свидетелями, которые знали все. Липа и Раиса могли лишь догадываться, но не смели обвинять с уверенностью. К тому же Липа – из тех, которые любят сами грешить, так и в других грех за беду не считают. Она – пустельга, но не доносчица. Да по ветрености своей она уже и забыла все: подробности нашего столкновения бесследно выдохлись из ее памяти; я не раз убеждалась в этом. Раисы вскоре не стало в нашем доме: ее кто-то сманил… В семидесятых годах Аркадий Николаевич Сердецкий, возвратясь из Петербурга, со смехом рассказывал мне, что признал Раису в одной известной опереточной звезде… Выйдя в люди, не особенно охотно вспоминают о времени, когда были горничными, и не затевают историй, связанных с такими воспоминаниями. Итак – остаются только тетя и Ревизанов. Но не тете было предавать меня. А Ревизанов надолго исчез из Москвы, и лишь сегодня я опять видела его. К большой моей досаде, Степан Ильич пригласил его к нам обедать. Придется любезно встречаться с человеком, к которому – и хотела бы, а не могу относиться равнодушно: не простила ему ничего, презираю и ненавижу, как восемнадцать лет тому назад. Мне не хотелось бы, чтобы он заметил это: слишком много чести! – а скрыть будет трудно. Сегодня в театре, увидав этого негодяя, я взволновалась, как не волновалась с тех проклятых дней. Надеюсь, что это было последнее мое волнение по этому поводу и что больше мне не придется ни перечитывать моей старой тетради, ни вносить в нее новых строк».
VIII
Воскресные обеды «своих» у Верховских были старым обычаем их дома. Собирались: Ратисовы, Синев и Елена Львовна Алимова, если бывала в Москве; из посторонних приглашалось не более двух-трех человек. Обедали в маленькой столовой, с обычным сервизом, без церемоний, по-родственному. Поэтому приехавший первым в воскресенье Синев даже руками развел: настолько праздничным блеском отличались приготовления к обеду…
– Сестричка! – завопил он. – Превращаюсь в статую восторга и изумления! Серебра-то, хрусталя-то… Господи Боже мой! «Богат и славен Кочубей, его луга необозримы!»
– Ради Бога, не так шумно, Петр Дмитриевич, – с досадой отозвалась Верховская. У нее с утра болела голова, и, не вмешиваясь в приготовления к обеду, она весь день пролежала на кушетке у себя в будуаре.
– Позвольте! Но чьи же сегодня именины?! Ваши? Лели? Лиды? Надо же мне знать, для кого посылать за конфетами.
– Пошлите для Ревизанова: он сегодня у нас обедает, и ради него Степан Ильич, как видите, поднял весь дом на ноги.
Лицо Синева омрачилось. Он смирно сел на стул возле Верховской.
– Людмила Александровна, – сказал он с укором в глазах, – зачем вы принимаете такую дрянь?
Верховская пожала плечами:
– Желание Степана Ильича! Вы знаете: у него благоговение к старинным знакомствам – недуг какой-то… Не видался с человеком двадцать лет, встретился – вот, на радостях, и фестиваль… Я очень спорила, но Степан Ильич даже немножко рассердился. Не ссориться же мне с мужем из-за господина Ревизанова! Верьте, голубчик: появление этого человека в нашем доме мне неприятнее, чем кому-либо…
Она помолчала.
– Да еще, как нарочно, нездоровится. В висках кузница, а изволь его занимать…
– Вот еще! очень надо! – сердито воскликнул Синев, – охота церемониться! Подкиньте его неувядаемой Олимпиаде, вот и вся недолга. И она будет счастлива, и ему не будет скучно: он ведь ферлакур известный… Что вы морщитесь?
– Боже мой! говорю же вам: мигрень… Помнится, вы в театре собирались рассказать мне что-то о Ревизанове?..
– Виноват, кузина: не рассказать, а посплетничать. Рассказывать можно лишь то, в чем уверен. А будь я хоть капельку уверен хоть в одном эпизоде из московской Ревизаниады – хо-хо! не обедать бы ему у вас, а сидеть бы, другу милому, в Бутырской академии, на цепуре… Ведь я уже говорил вам, что в ревизановской легенде вы найдете все что угодно: и убийство, и шантаж, и грабеж, и подделку документов.
– Славный гость для порядочного дома! – заметила Верховская с жестом отвращения.
– Э! кузина! – утешил ее на этот раз Синев, – таких ли господ приходится знать и подавать им руку… Общество неразборчиво… О Ревизанове мы, по крайней мере, ничего верного не знаем. А вон я ездил с сенатором Лисицыным в Сибирь на ревизию – так прямо диву давался: наши господа червонные валеты, сосланные за растраты, кражи, мошенничества, всюду – первые гости, если, конечно, они сберегли что-либо из украденного. А раз мы так добры, что не отказываем в любезном приеме даже шельмованным молодцам, какое нам дело до прошлого человека с какою угодно легендою? Особенно когда человек этот очаровательный мужчина и – главное – первоклассный капиталист? Кто старое помянет, тому глаз вон.
– Не философствуйте, а рассказывайте легенду.
– Э! однако я вас заинтересовал. Вот уверяют, например, будто обе жены Ревизанова, – и мануфактурщица Ахова, и золотопромышленница Лабуш, – умерли не своей смертью; будто приисковый врач Штерн, который пользовал Лабуш пред ее кончиной и которого молва считает тоже не без греха в этом деле, вскоре был уволен Ревизановым за какие-то дерзкие намеки, поехал в Екатеринбург и, не доехав, пропал, по дороге, без вести в тайге… Ну, и еще десятки тому подобных сказок.
– Скажите откровенно: вы лично им верите хоть сколько-нибудь?
– Нет! – с некоторым колебанием ответил Синев, – нет! Что-нибудь есть за ним темное и скверное, – только не такое, а в другом роде. Видите ли, во-первых, подозрительные обстоятельства, при которых умерла вторая жена Ревизанова, вызвали – как я уже говорил вам – тайное дознание. Производил его человек в высшей степени добросовестный и самым тщательным образом. Однако он не открыл ни тени не то что преступления, но даже некорректных каких-либо поступков со стороны Ревизанова. Наоборот, сам Ревизанов скорее был в этом браке страдательным лицом, угнетенным несчастным мужем, потому что золотопромышленница его – как выражался Кузьма Прутков, – «следуя обычаям своей страны», – пила мертвую чашу, допивалась до белой горячки и скандалила на весь Урал, пока благополучно не умерла от цирроза печени. Говорили, правда, что пить она стала с выучки и благословения возлюбленного супруга, но таких преступлений российские законы не предвидели и наказания за них не предусмотрели. Да и правда ли? Мало ли с чего вдруг возьмет да и сопьется русская купчиха: чему другому, а пьянству учить ихнюю сестру нечего, – горазда и без наставников. Во-вторых, трудно допустить в интеллигентном человеке возможность такого последовательно отрицательного характера. Цезари Борджиа исчезли во мраке веков. Нынче систематическими преступлениями занимаются только дегенераты, дикари цивилизации. И, наконец, в-третьих, преступление дело копотливое; своими отголосками оно отнимает у человека много времени, а Ревизанову – этому вечно, как в котле, кипящему дельцу – навязывают на шею такую пропасть вопиющей об отмщении уголовщины, что трех жизней мало, чтобы успевать играть в прятки с законом при столь стеснительной обстановке. Все обвинения на него, разумеется, раздуты, искажены, перевернуты с лица наизнанку. Тут и зависть, и довольно общая страстишка позлословить насчет выдающегося человека, и выдумки ненависти: у Ревизанова масса врагов – и за дело, и просто по антипатии… Ведь он очарователен, только когда хочет, а вообще, пренадменная скотина… Но с другой стороны, повторяю, – и дыма без огня не бывает: какая-нибудь искорка правды сверкает и в этих рассказах; да вот – поди! поймай эту искорку!..
Он задумался.
– Что Ревизанов – человек огромной силы воли и не трус, – начал он снова, – я лично могу вам засвидетельствовать. Я – совсем юным кандидатом на судебные должности – был причислен к суду в Северске, как раз когда бунтовали рабочие на железной дороге, тогда еще только начатой. Я сам видел, как Ревизанов, один, без оружия, вошел в самую средину толпы, озлобленной справедливым негодованием – кормили их убийственно! – и водкою. Рабочие только что зашвыряли камнями станового и изувечили двух урядников. В воздухе висели крики: «Подавай нам самого Ревизанова! что на него смотреть? бей его, ребята!» Он осмотрелся, выглядел крикуна погорластее, собственноручно взял его за шиворот и приказал связать.
– И связали?
– Да. Уж очень хорошо приказал. У меня вчуже пошли по спине мурашки. Прикажи он мне так внушительно связать даже отца родного, – кажется, и я бы тоже оробел и машинально повиновался. А сознательно действовать на толпу – это, я вам скажу, не шутка. Тут много надо и характера, и презрения к человеку – уменья смотреть на него, как на скот, обязанный беспрекословно повиноваться. Люди, снабженные таким даром и уменьем, далеко не часто встречаются и обыкновенно сортируются по двум категориям: либо это великие народные вожди и деятели, либо большой руки канальи и хладнокровные, сознательные преступники… И так как Ревизанов не великий человек, да уже и выходит из лет, когда формируются великие люди, то я позволяю себе считать его во втором разряде «героев толпы» – то есть сопричислить его «со тати и разбойники».
Синев встал и прошелся по комнате: он соображал и припоминал.
– Вообще, бороться и враждовать с Ревизановым я не желал бы… Вы не слыхали про некоего Блюма?
– Нет. Кто это?
– Петербургский банкир, компаньон Ревизанова по постройке Северской дороги. Видите ли: известно, что Ревизанов ведет отчаянную биржевую игру, хотя лично он очень редкий гость на бирже и имеет странность притворяться совсем непричастным к ее жизни; нескольких завзятых биржевиков – к слову сказать, господ с весьма сомнительным прошлым – считают его уполномоченным агентом. Весьма часто, при необъяснимых колебаниях русских частных бумаг, наши – в особенности петербургские – дельцы, опасливо придерживая карманы, восклицают: «Ох, не Ревизановым ли тут пахнет?» – и стараются сбыть с рук начавшую подозрительно танцевать бумагу. Но возвратимся к Блюму. Этот господин – зазнавшийся немец из тех, которые, наживаясь русским потом и кровью, памятуют твердо только одно: что русский – «свин», а у них есть «свой король в Германии». Однажды он сказал Ревизанову крупную дерзость, Ревизанов смолчал, но с этого дня на Блюма посыпались непонятные невзгоды: купит он какие-нибудь акции в повышении – глядь, назавтра курс на них падает до minimum'a; продаст что-либо в minimum'e – глядь, курс начинает подниматься; значит, покупай обратно с большим убытком… а завтра опять скачок вниз! Скоро прошли слухи, что Блюму приходится плохо и он ненадежен. Вкладчики его конторы единодушно потребовали свои деньги, и Блюм позорно крахнул. На бирже все соглашались, что Блюма убрал Ревизанов. Если это правда, то, ради мести, он позволил себе большую роскошь: биржевые скачки, погубившие Блюма, балансировали по меньшей мере на полумиллионе… Да и всем, кто ссорится с Ревизановым, начинает как-то не везти: одни разоряются, другие теряют службу, третьи, наконец, пропадают без вести, даже умирают.
– Что вы говорите?
– Да, право, так. По смерти Лабуш ее единственный родственник, известный сибирский делец Тотьмин, вздумал было оспаривать завещание, оставленное покойною в пользу мужа и… в одночасье умер от удара.
– Что же? в этой истории нет ничего неестественного.
– А я разве утверждаю противное? Я только привожу пример, что ревизановским врагам бабушка не ворожит.
Приехала Олимпиада Алексеевна с мужем, разодетая, как на раут, и – точно лейденская банка – заряженная кокетством.
– Фу-ты ну-ты! – встретил ее Синев. – Не женщина, а Святослав в юбке! «Иду на вы» – и шабаш! Держись теперь, Андрей Ревизанов!
– А тебе завидно?
– Куда уж мне завидовать! Где нам, дуракам, чай пить? Наше место – на заднем столе, с музыкантами.
Ратисова осмотрела туалет Людмилы Александровны:
– Ты не будешь переодеваться к обеду? так, вот в этом и останешься?
– Конечно, – с досадою возразила Верховская. – С какой стати мне рядиться? Не именины же у нас в самом деле, как уже посмеялся Петр Дмитриевич…
– Да нет, кузина, я ведь ничего… – сконфузился молодой человек.
– Пожалуйста, не оправдывайтесь: вы совершенно правы, и весь этот фестиваль по случаю знакомства, – как в афишах пишут – «в первый раз по возобновлении», ужасно глуп…
Ратисова продолжала критиковать ее взглядом.
– Впрочем, – сказала она, – черное удивительно идет к тебе… Испанка какая-то… Ты очень интересна сегодня.







