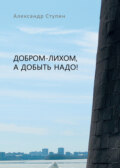Александр Ступин
Одинокий. Рассказы
Корректор Лариса Александровна Ступина
Иллюстратор Лариса Александровна Ступина
Редактор Лариса Александровна Ступина
© Александр Ступин, 2018
© Лариса Александровна Ступина, иллюстрации, 2018
ISBN 978-5-4490-9148-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

I
Ну, какие сказки. Разве я – сказочница? Это раньше в старину сказочники были. Знали сказок много, да интересных. Заслушаешься. Телевизоров-радио-интернетов ваших не было, вот и приглашали такого сказителя. К примеру, рыбаки на путине. Днём-то они в море рыбу ловят. А вечерами у костра сказки слушают, истории разные.
Только вот, у меня сказок нет, я вам всю правду говорю, а если и домысливаю что, так это, чтобы слушать интереснее было. Где сама видела, где люди подсказали. Людям-то верить надо. Не всем. Но я-то, поди, разбираюсь. Отличаю, кому – можно, а кто – так, для красного словца прибавляет-присочиняет.
Вот, к примеру, сказывали, появился в одной деревеньке парнишка, сыночек банного. Уж и не знаю, что у них там вышло в семействе-то, а только наш остался один-одинёшенек, без ласки и заботы родителей: сирота-сиротой. Банные-то, они, вроде как домовые, это всем известно. Поселяются они в баньках, но не в каждой, и не у всякого хозяина. Как они выбирают баньку, по каким таким понятиям-приметам – людям неизвестно. Вот поселяются, и всё тут.
Так-то, они не зловредные, и присутствия своего особенно ни чем не выказывают. Пошалить могли. Хозяева баньку готовят: воды наносят из колодца в бочку, пол прометут, со стен паутину снимут, печь растопят. Вот уж всё готово, парься. Не тут-то было. Веники из ушатов достают, а они все – голенькие, и листики разбросаны, как ветром осенним по земле. Розги, а не веники. Или того хуже. Заходят хозяева париться, а там холод, печку инеем подёрнуло, хоть на улице жара, дыму въедливого полно – глаз не открыть, слёзы текут. Но так-то редко бывало.
Если такое вдруг приключалось, верный признак – осерчали банные. Хозяева тотчас – медку на блюдечке, или яблочек мочёных, вареньица. Спиртного-то банные на дух не выносили, и дыма табачного тоже – чихали да кашляли. Оттого сердились, бывало, да так, что к баньке месяц не подходи.
А как же? Рассердил ты банного, у тебя и двери не закрываются в баньке, стекла в окошках лопаются. Или труба печная развалилась, или птица в неё падает, дым из печи в баньку идёт. Муки вечные. Сколько времени и трудов, пока печники её оттуда вытащат. А то, в кадке дырок насверлят, прямо – решето, а не кадка, или полки подпилят. Даже сжечь баньку могут, если сильно осерчают. А что им – нечисть, она и есть нечисть. Но банные чистоту любят. В грязных баньках не селятся.
Ну, вот. Поселился парнишка-то наш в одной баньке. Говаривали, что проходящий табор цыганский его подкинул. Мол, нашли цыгане ребятёнка у дороги в траве. Думали, наверное, что человеческий. А когда чуть подрос, увидели, что – нет, не человеческий.
Маленький такой, глазки, как у зверька, диковатые, хотя многое, как у человека, не отличить. Но на языке человеческом говорил плохо, хотя всё понимал. И ещё, с насекомыми, зверюшками разговаривал, чудеса всякие творил. Мог, к примеру, поленом запустить со злости в кого-нибудь: посмотрит на полено-то, а потом глазёнками поведёт, оно и летит.
Деревенские вначале тоже ничего не поняли: парнишка и парнишка. Ростом с трехлетку, но шустрый, вот только говорит как-то странно, лопочет, лопочет по-своему, не разберёшь. Подкармливали его, понятно, а жить он стал в баньке.
Имя ему случай помог найти. Вот, как-то парились мужики, жару нагнали, печь раскалена, да ещё и воды плеснули. Один и кричит: «Жарко! Слишком жарко!» Мол, хватит поддавать-то. А парнишке показалось, что его зовут. Имени-то у него не было. Но он слышал, что люди друг друга по имени зовут, вот и придумал себе. Вышел, улыбается. Посмеялись тогда мужики, да напрасно. Но имя – не имя, прозвище, что ли, приклеилось к нему. Стали его кликать: «Слишкомжарко».
А надо сказать, что парнишечка этот, хоть и не человек вовсе, но смышлёный. Подглядел ведь он, что в печь дрова кидают, и от этого всем хорошо. Смекнул. Мужики-то кричали в баньке по-всякому случаю: «Поддай, да поддай», «Печь холодна, дровишек ещё подкинь». Он и стал потихоньку подкидывать. А они смеялись, благодарили его. Всем и было хорошо.
Но вот, как-то приготовили мужички баньку для родственника какого-то из города. Воды наносили, печь, понятно, жарко растопили, веники запарили. Опять же, по-новому: пива купили, рыбки вяленой принесли, приготовились по-настоящему. Сидят они, в баньке парятся. Хорошо. Банька – на берегу озера. Лесочки кругом. Вот, городской с непривычки взопрел, собрался из парилки-то на свежий воздух, и говорит: «Пойду на озеро. Окунусь. Слишком жарко».
– Что?! – кричат мужики. Не поняли они, что он сказал. Вениками хлестались, или под паром-то и пивом. Городской им и крикнул что есть мочи: «Слишком жарко, пойду!»
Услышал этот крик парнишка и подумал, что зовут его. Дверь открылась, и дровишки в печь сами полетели, шлёп-шлёп, торопятся. Мужики внимания не обращают, печь-то с обратной стороны растапливается. И пошло-поехало тут. Старается парнишка. Устали мужички вениками хлестаться, говорят друг другу: «Ну всё, пора на свежий воздух, упарились. Уж слишком жарко». Тихо говорили, но не знали, что банный тут уж.
И наш парнишка начеку: «Мало, стало, быть пару-то». Дрова – в печь, вода – на камни! Пошло дело. Мужики с полков вниз скатились, и – к двери. А дверь закрылась и не открывается. Они – и так и сяк, не могут открыть. Сидят, водой холодной обливаются, а она тоже греться начала, чуть не кипит. Хмель с мужиков окончательно вышел, и поняли они, чьих рук дело.
– Ой, хватит, хватит! – кричат, – Мочи нет терпеть, отпусти ты нас, не губи!
А парнишка понимать-то – понимал речь нашу, да видать, плохо, а может, шалить начал. Они стонут, а он ещё больше старается, жару поддаёт.
Видят парильщики – дело плохо. Выбили насилу окно и стали на помощь звать. Прибегает родственник. Но он про банного знать ничего не знал, и давай сразу дверь ломать. Лом схватил, топор. Рушит баньку-то. Мужики с жары не сообразили его предупредить, да и не поверил бы он им. Подумал бы, от жары в голове у них помутилось.
А Слишкомжарко осерчал не на шутку: банька-то – дом его. Подумал, ломают её. Размахивается городской топором, чтобы дверь разбить, а тот из рук его вырывается и на улицу улетает в кусты. И лом – туда же. Городской из баньки выбежал, схватил ведро воды, и в топку – водой, огонь гасить стал. Дрова шипят, пар, вода грязная течёт. Как тут Слишкомжарко осерчал!
Родственник ничего не понял, только возвращался он домой на «Скорой помощи». А мужики, пока сражение это было, из плена освободились, дверь выбили, и в озеро попрыгали. Так и сидели, пока не услышали вопли родственничка. Еле доплелись, а он уж вот: лежит на траве, стонет. Погуляли, в общем. Они – красные, чуть кожа с живых не слезла, и он – весь в синяках.
Выпили на радостях, что живые остались, но родственнику ничего сказывать не стали. «Полтергейст, он и есть полтергейст», – как городской сказал, когда его на носилках в машину «Скорой помощи» грузили. Был, конечно, участковый, носком ботинка землю поковырял, и решил: «Перебрали сельские, да и подрались чуток. Ничего страшного, тем более, заявление-то никто писать не стал».
Время шло. Местные лишний раз парнишку не звали, но от помощи его не отказывались, и были настороже.
Парнишка тем временем вырос. Бородёнка у него, как лишайник в лесу, волосы такие же. По человеческим обычаям жить стал: брился-стригся, одеколоном пользовался, даже зубы чистил. И одевался тоже как человек, а где ж он другое-то возьмёт? Но, поскольку роста был небольшого, не выше ребёнка десятилетнего, ему всё детское и доставалось. Со всей деревни несли, и свои, и чужие.
Местная детвора с ним не играла, побаивались. Он тоже их сторонился, игр детских не понимал, и, самое главное, общаться с ним тяжело было. Понимать – он понимал, что ему говорили, а сам говорил тяжело.
II
К тому времени дачники у нас объявились. Места-то красивые: лес, речка, озеро, и от города недалеко. Колхозов-совхозов к тому времени не стало, поразрушили всё.
Вот, церковь стали восстанавливать. Она у нас красивая была, да в дни окаянные разрушили её, потом война была. Батюшку назначили. Хороший такой батюшка, отец Иоанн, с Украины, или нет, белгородский. Но всё: «шо» да «гы».
Когда отстроили колокольню, привезли колокол. Ну, конечно, не такой, что раньше был, откуда столько денег взять, но тоже – немаленький. Кран огромный приехал. Вот идёт работа по подъёму колокола. Всё хорошо, строители поднимают, отец Иоанн в сторонке с жителями наблюдают.
Поднимает кран колокол медленно. Сначала с машины его снял, а потом осторожно поворачивается к колокольне и вверх несёт. На небе – ни облачка, ветра почти нет. Всё складывалось замечательно. Ещё немного, и заведут его под балку, на которой он должен висеть.
И вдруг опоры у крана начинают продавливать землю. Может, там пустота образовалась, песок подвымыло, или грунт неустойчивый, поди – разберись. Крановщик-то опоры выдвинул, как положено, и пока на одну сторону тяжесть была, кран стоял, а как только поворачивать начал, то опора со стороны церкви стала в землю уходить. А где одна, там и другая. Все четыре колеса с противоположной стороны от церкви плавно оторвались от земли, машина накренилась, и стрела крана оперлась на стену колокольни. У крановщика лицо всё взмокло от пота, не знает, что делать.
Вместе со всеми и наш банный стоял. Вначале он в восторге был, пальцами водил, бурчал что-то. А ему объяснить пытались: «Упадёт, дескать, кран-то, и колокол разобьется. Да что тебе говорить? Всё равно, ничего не понимаешь». А парнишка глаза таращил, лоб морщил и постепенно допёр, что кран упасть может, точнее сказать, грохнется с минуты на минуту. Он тогда стал мужикам что-то объяснять, лопочет им, руками машет, но они его не слушали: «Дошло, наконец. И без тебя знаем. Да что сделать-то можно?»
Парнишка аж весь трясся от возбуждения. С ним такое случалось. Поэтому никто особенно внимания не обратил на это, все на кран смотрели. Ситуация на тот момент безвыходной стала. Слишкомжарко же стал туда-сюда бегать. То вокруг крана, потом вокруг церкви. Да шепчет что-то, приседает, руками взмахивает. Отец Иоанн стоял бледный и уж смирившийся с тем, что разобьётся колокол.
– Только бы люди не погибли, а колокол… Что же, Бог даст, новый закажем. Когда только? Лет через десять… Что делать-то? Беда. Вон, дитя неразумное, и то так переживает…
Стоит батюшка, чуть не плачет: и кого винить, случай? Крановщик из кабины вышел, руками смущённо разводит: «Что поделаешь?»
– И что теперь?
– Был бы второй кран, тогда перецепили бы.
Но все понимали, что найти такой второй кран сложно. Нет его.
А парнишка наш всё бегает. То к крану подбежит, то к колокольне. А потом замер у машины, стоит, смотрит, и по лицу его крупные капли пота потекли ручьём, как будто в бане он сидит, а не на улице весенней. Напрягся весь, кряхтит, будто тянет что-то тяжелое руками за канаты.
– Это кто? Дурачок ваш местный? – спрашивает крановщик.
– Ой, смотри, смотри… Падает, кран падает!!
Ахнул народ. Действительно, стрела заскрипела, трос натянулся, дрожит… Вздрогнула стрела, кирпич со штукатуркой от стены отвалились.
– Берегись, берегись, сейчас упадут, упадут!
– Подальше, подальше…
И строители, и местные стали отбегать подальше от крана с колоколом – опасно. Только парнишка остался, как в землю врос.
– Беги, беги, парень, погибнешь!
Стоит по-прежнему, сопит, рычит… И тросы на кране дрожать ещё сильнее стали, и вздрогнула стрела. Вздрогнула и нехотя отошла от стены.
– Гляди, гляди, что там…
Колокол медленно отходил от стены, и машина встала всеми восемью колесами на землю. Все стояли, открыв рты. Чудо!
– Ой, милый! Ой, выручай! Только не отвлекайте его, только не подходи к нему никто!! Не вводите меня во грех, бо, пришибу! – запричитал отец Иоанн, вдруг поверивший в чудо.
Когда опоры полностью вышли, мужики быстро завели под них широкий металлический швеллер. Крановщик уж в кабину влетел и осторожно поставил колокол на место. Все работали, как под гипнозом, понимали друг друга без слов. Когда закончили, только пот со лба утёрли и закурили, кто курил. Руки тряслись, и пот у всех ручьём. Крановщик, тот вообще, молча собрался, перекрестился, и быстро уехал. Местные тоже в растерянности были, в стороне топтались.
– М-да…
– Да-а-а…
– Надо ж такое…
И всё. Батюшка всё на церковь крестился и кланялся, крестился и кланялся. Так – минут пятнадцать, а потом парнишку обнял и три раза поцеловал: «Я уж, милый мой, не знаю, кто ты. От лукавого сила твоя, или Господь тебя наделил, только сегодня ты людям, церкви большую услугу оказал. Тебе это зачтётся. Спасибо и вам, люди добрые. Руки дрожат. Даже вон, слеза выступила от сильных чувств. Господь с нами. Праздник сегодня. Накрывай столы.»
Столы накрыли быстро, батюшку благодарили и парнишке руку жали: «Молодец, постоял за мир!». Он весь сиял от счастья.
III
Так у них дружба с отцом Иоанном и началась. Батюшка разрешал ему лазить на колокольню и в колокол ударять. Только банник этого гула колокольного поначалу сильно пугался, а потом привык. Стал он при храме вроде служки. Священник же задумал при случае к местному архиепископу съездить, попросить за него, чтобы разрешили ему прислуживать в храме.
Случай представился дней, может, через десять. Поехал батюшка в город. Дела разные: свечей подкупить, иконок, крестиков. Стоит он на складе церковном, товар получает, и заходит на склад архиепископ, предстоятель местной епархии.
Поздоровались, перекинулись словами, и напрашивается отец Иоанн к Владыке на приём. Тот и приглашает его: «Давно не виделись, вот к обеду и приходи. Отобедаем, чем Бог послал, а потом и побеседуем.» К трапезе отец Иоанн и заявился.
Когда обед закончился, в кабинете своём архиепископ и завёл беседу:
– Отец Иоанн, слышал я про эксперимент твой.
– Какой такой эксперимент?
– Будто в храм божий нечистого водишь, приваживаешь. Не дело это. С одной стороны, слухи, конечно, про его нечеловеческое происхождение. Только я представляю, как эти слухи до властей дойдут. Как они посмотрят? Скрывать не буду, мне служить-то – год, два, потом – на покой. Раздуют, преувеличат. У меня недоброжелателей-то хватает, да и место неплохое. И отправят меня туда, куда Макар телят не гонял – на Чукотку или в Читу.
Архиепископ Феодосий по возрасту своему был тяжеловат, но не толст. Был он человеком уважаемым, простым в обхождении, но не прост сам по себе. Жизнь заставила его быть осторожным и хитроватым, но настолько, что люди не могли про него сказать «хитёр», потому что для человека, служащего в церкви, прослыть хитрецом – не лучшая из характеристик.
В народе «хитрован» – это про купца-торговца. Священник, наоборот, должен быть прост и бесхитростен, а уж монашествующий – тем более. Феодосий же часто поминал при своих наставления преподобного Иоанна, которые тот в своей «Лествице» записал: «…Поспешая к жизни уединённой, или странничеству, не дожидайся миролюбивых душ; ибо тать приходит нечаянно. Многие, покусившись спасать вместе с собой нерадивых и ленивых, и сами вместе с ними погибли, когда огонь ревности их угас со временем. Ощутивши пламень, беги; ибо не знаешь, когда он угаснет и оставит тебя во тьме. О спасении других не все подлежим ответу… Все ли должны мы пещись о других, не знаю; о самих же о себе всячески должны мы заботиться».
Вот и рассуждал он: «Ситуация непростая. Ребенок брошен цыганами, прижился в дачном посёлке. Странный на вид был младенец. Стали его звать „домовым“. Стало быть, нечистым. Но домовые, лешие, кикиморы, анчутки, и прочие, прочие – это ж всё язычество. Скажут: „Ну вот, дожил архиепископ, в язычество ударился.“ Проходу не дадут. Телевидение, газеты, университет… Домовых нет и быть не может. Да, нет и быть не может…»
Владыко встал бодро с архиерейского кресла с резной спинкой и подлокотниками и, перебирая пальцами четки, прошёлся по кабинету, размышляя далее: «Домовых быть не может – это всё суеверия, отголоски язычества, „бытовое язычество“. И если так, священник не нарушает никаких правил, привлекая этого странного парня. Не нарушает, не нарушает, и даже более того, пригрел сироту… Пригрел сироту, пригрел… А вдруг окажется, что змею на груди? Вдруг, и… Даже представить, что будет, и то оторопь берёт…»
Феодосий подошёл к столу и налил из графина воду в высокий стакан, пил долго, небольшими глотками, успокаиваясь. «Запретить, запретить, потому что…»
Раньше при крупных храмах отставные солдаты служили за небольшую плату. Вышел бы такой старый солдат и голосом, не терпящим возражений, гаркнул: «Приказано не пущать! Иди подобру-поздорову!» И всё. А кто там приказал, какой со служивого спрос? Сегодня на полицию какая опора? Денег запросят за охрану, а при конфузе сдадут с потрохами, да ещё от себя добавят». Допив воду, он поставил стакан и вновь сел в кресло.
«А поеду я, посмотрю на него. Поеду. Ну, любопытно же. Потом и решу. В конце концов, мне самому интересно… По-человечески. Боюсь разочароваться. Может, просто уродец какой-нибудь, „дитя воскресенья“, родители – пьяницы. Так бывает, бросили дитя. Что им, живут так, что и скотина так не живёт, всяк о потомстве своем печётся.»
Отец Иоанн тихо сидел на стуле и наблюдал за архиепископом. Он понимал направление мыслей и сомнения его. Были мгновения, когда хотел произнести: «Да валите, если что, всё на меня, Владыко. Ну, отправите меня, непутёвого, в дальний приход…». Но не сказал. Если что случится, он и без этих слов своё получит: «Тележка будет маленькая, но тяжёлая.»
– Вот как мы поступим, отец Иоанн. Съезжу я к тебе. Самому любопытно.
Знаешь, мне всегда была любопытна притча о Женихе. Я ведь, признаюсь, до конца её так и не понял. Почему «званые не явились»? Нужно было шоу, с треском, с блеском молний, или наоборот, закрытость, клуб для особо приближённых? Ведь явись они, прознай, кто их зовёт… Почёт, венки, возлежание, курение масел, жертвы.
И разговор был бы с теми, кто понимает, что такое власть, как вести за собой массы, как их организовать. Не было бы столь многих жертв, и отклонений, противоречий и войн. Почему? Почему интеллектуалы отвергли «правду жизни»?
– У «золотого тельца» теплее? – сказал Иоанн. – А потом, философствующие и сами власть не прочь иметь над умами. Дьявол знал, чем человека зацепить: начал с интеллекта в раю, а на земле предложил власть.
– Но не может быть, чтобы не нашлось никого. Рыбаки, пастухи, землепашцы… Простые, неграмотные, мало знающие, малоспособные, мало расположенные к познанию, плохо обучаемые получили из рук Иисуса Христа Благую весть и, с трудом разжевывая её, двинулись учить язычников, среди которых были великие полководцы, ученые, композиторы, поэты! Почему они…? Вопрос для меня. Идите, я к вам приеду.
Поп приложился к руке архиепископа, тот благословил его. На том и расстались.
IV
К тому времени банный уж прописался в храме. Проповеди слушал. И очень ему понравилось там. Особенно любил праздники и крестные ходы. Если на колокольне кто и был чаще других, так это тоже парнишка. Как его природа языческая с христианством сочеталось, никто объяснить не мог. Только стал он меньше проказничать, и всегда, когда к церкви подходил, крестился. Хотя все знали, что обряд крещения он не проходил. Батюшка был известный либерал, но здесь что-то его останавливало. Хотя говаривал, дескать, этот «нечистый» иного христианина в благочестии за пояс заткнёт.
Тем временем, в деревне нашей произошли новые события. В лихие времена колхозы-то позакрывала московская власть. Двери на распашку, дескать, получай, мужик, полную свободу, наконец. Народ от счастья такого и запил. А что? Привыкли ведь работать по приказу. А тут – волю дали, что хошь, то и делай.
Наделы свои фермерам да акционерам посдавали в аренду, а сами – кто во что горазд: в город ездили на заработки, но большинство дома остались и перебивались случайными шабашками и мелким воровством. Хозяйством мало кто занимался, тут ведь стержень нужен, от дедов-прадедов. А много ли таких справных хозяев? Один на сотню. Да и тех в революцию побили, пораскулачивали, а кто и на войне последней погиб. Вот оставшиеся и развернулись. Дома пустеть стали, и уезжали сами много, а кого на погост свезли. Тяжёлые времена…
Деревня наша хороша. Своим-то приелась, а кто чужой приезжал – в восторге был. И стали к нам заезжать люди, и не всегда хорошие.
Как-то подкатывает целая кавалькада. Да всё дорогие какие-то, джипы там разные и начальство районное. Ходят по деревне, по лесу, вдоль реки, что-то обсуждают. А потом уехали.
И пошёл по деревне слух, что местные власти деревню продали. Всю как есть, вместе с жителями. Прямо, как при царе-батюшке. Правда – то было или нет, но появилась в подтверждение слухам в деревне техника строительная: бульдозеры, экскаваторы, краны, машины, видимо-невидимо. Строители – гастарбайтеры, из узбеков, что-ли, вагончики поставили. Стали они по деревне ходить, копать там и сям.
Народ понять ничего не может. А тут глава района приехал и разъяснил: «Местный колхоз-то разогнали, оставшиеся обанкротились, земли выкупило какое-то АО. В деревне будут преобразования, но это самое АО готово выкупить оставшиеся хозяйства по разумной цене, согласно прейскуранту, за три копейки. Подходите, торопитесь, дело, конечно, добровольное, но кто не продаст – пожалеет». Золотая Орда, и только.
Местные побузили для виду и стали потихоньку к конторе бегать, тайком друг от друга. Стыдно, видать, было родное продавать. В деревне-то, не как в городе, совесть не сразу замотали и Родину помнили. Но и к нам на обочину грязь отлетела, а вместо того, чтобы очиститься, мы в ней ещё больше вывалились. Дома продавали, сами съезжали, да видно, счастья в городе не все искали.
Были такие, кто не согласился уезжать. Что это, мол, наше родное, не поедем, и всё тут. У некоторых хозяйство налажено, кто-то фермером стал, да и дачники заартачились, уж больно им места наши понравились. Нашла, одним словом, коса на камень. Хоть и в меньшинстве остались, но крепкие люди. И как их только не уговаривали.
Районный глава приезжал, на собрании золотые горы сулил, угрожал электричество пообрезать, дороги перекопать – ни в какую. «Тогда, говорит, пеняйте на себя. Не хотите по-хорошему, я умываю руки. Жалеть потом будете, локти кусать», – сказал так и уехал.
Прошло дней несколько. На стройке за забором строители тихо копошились, когда к обеду подъехали несколько джипов этих и автобусик. Вышли из них людишки в чёрных одеждах, черти прям. Охрана какая-то. Но на морды – бандит на бандите, или каратели.
Стали они в деревне порядки свои наводить. Строители заборов понаставили, к реке, озеру не пройти. Дороги перекопали. Выживают людей. И управы на них ни какой нет. Участковый не появляется, один он на несколько деревень. Приезжала как-то комиссия из города, дачники постарались, но никаких нарушений не обнаружила. Документы у АО в порядке.
Стали люди задумываться, не бросить ли всё, и не уехать подобру-поздорову? А тут ещё случай. Фермера одного охрана избила сильно, а дом его сгорел. И всё с рук бандитам сошло. Засобирались люди. Плакали, так уезжать не хотелось, а куда деваться? Не умирать же.
Как-то раз в субботу собрались бандиты из охраны отдохнуть, в баньке попариться. Места-то у нас дивные. И глянулась им банька на берегу озера. Приказали они гастарбайтерам воды натаскать, растопить баньку. Плов решили на берегу готовить, огонь развели, столы поставили. Разгуляться решили.
А был в деревне учитель старый. Директор школы деревенской. Вот он тихонько к баньке подошёл, дверь открывает, а там парятся охрана с начальством своим, и кричит им: «С легким паром вас. Слишкомжарко! Слишкомжарко! У вас тут».
– Пошёл вон, старик, двери закрой.
– Закрою, люди добрые.
«Потом ещё звать будет», – тихо сказал, и на улицу вышел. В сторонку отошел, ждёт. Ничего не происходит. Он – ещё раз в баньку.
– Может помочь чем? Нет? Слишкомжарко! Слишкомжарко!
– Сгинь, старик, без твоей помощи обойдёмся…
Вышел старик. Расстроился. Не получилось. Пропадёт деревня, значит, тому и быть. Присел на лавочку, горюет. Бандиты из охраны в чем мать родила в озеро прыгают, орут, ругаются от удовольствия.
Тут подъехал глава местной районной администрации. Машина такая большая чёрная, дорогущая, все вокруг него суетятся. Разделся он. В баньку его ведут, венички свеженькие прямо с березы, кваску холодного. Парят его. И вдруг видит старик, что из трубы дым больше пошёл. А потом – прямо огонь. Забегали эти черти, кричат, двери ломают. И началось тут светопреставление.
Главный-то или из слуг его кто, банного случайно позвал: «Слишкомжарко». Учитель – тот в одежде был, а в бане, как известно, голыми парятся. Вот на его зов парнишка и не явился. А в бане кто-то случайно и позвал, сам того не подозревая. Да уж так позвал, что парнишка из кожи вон лез, чтобы растопить баньку. Те внутри орут, а он больше поддаёт.
Двери бандиты враз вынесли без топора. Здоровенные, силищи в них. А вот дальше кто-то из них стал печь водой заливать и дрова вытаскивать. А печь для банного – святое, её трогать нельзя, осерчает. Вот громила из бандитов в печи орудует, ругаясь. Головни – на пол, грязь, дым, а ещё и запах винный.
И осерчал Слишкомжарко. Взял для начала и двинул поленом по лбу бандита. Тот даже не заметил. Громит баньку. Тогда глянул банник на два огромных полена, взлетели в баньку они да прямо в лоб промеж глаз опустились охраннику. Он на глазах у всех из двери и выпал. На землю упал, не встаёт. Его водой отлили, в чувство приводят, спрашивают: «Кто тебя так?» Но он мычит только.
Но есть во всяком обществе людишки, так, ни то ни сё, ни Богу свеча, ни чёрту кочерга. И в нашей деревне такой был. Откуда взялся, не помнил никто. Был и был. Вот, он старшему и говорит: «Есть у нас в деревне парнишка приблудный. Он это. Вы его так не найдёте, но он мёд очень любит, поставьте мёд, он и выползет».
Вначале бандиты не поверили, а потом согласились. Полную миску мёду набрали и кличут банного, будто бы помириться хотят. Долго он не появлялся, а потом вышел, горемычный. Уж больно мёд любил. Ест он мёд и урчит, как кот.
– Это что за обезьяна такая? – хохочут бандиты.
– Оно, что ли, нашего Серёгу бревном приговорило?!
И потешаются над товарищем своим. Тот уж в себя пришёл. Взревел. Подлетает к парнишке и со всей мочи, как по мячу, ногой его ударил. Отлетел бедняга от миски и лежит на земле без чувств. А этот злыдень всё не угомонится, вытащил из машины дубинку деревянную, подошёл к Слишкомжарко и так сильно его ударил несколько раз, что он опять подлетел в воздухе и упал на землю.
– Ты что, замочил его?
– Точно, убил. Не шевелится.
Хотели они подойти к банному, но тот пошевелился и медленно встал. Вырвал дубинку у бандита и стал его бить его. Голову ему рассёк, колено. Охранники тут же выхватили оружие и стали стрелять. Было видно, как пули рвут тело парнишки, одежда – в клочья, кепочка в кусты улетела. Когда они перестали стрелять, потому что кончились патроны, старший приказал: «В мешок его, и закопайте, нечего озеро поганить. Убили животное, которое напало на человека. Самооборона».
Принесли грязный мешок, затолкали туда парнишку и в лесу закопали. Где то место, никто не знал. Односельчанину, который банного выдал, дали тысячу рублей и наказали, чтобы он молчал. Только тот усмехнулся: «Конечно, буду молчать, что ж я, не понимаю…» Когда он шёл, дорогой его догнал старик-директор.
– Зачем ты это сделал?
– Пусть знают…
– Он ведь может их очень сильно наказать.
– Они мою собачонку ни за что убили. У меня кроме неё никого не было. Они её вот так же запросто из ружья, как каратели, фашисты проклятые.
– Может, предупредить их, кто знает, чем это всё кончится? Наши люди, всё-таки, пусть и заблудшие
– А ты – такой жалостливый? Предупреди. Скажи, так мол и так, а подстрелили вы, братки, банного. Духа – нечистого. И грязной землей засыпали. Одежду его порвали, кепочку в грязь в топтали. Что они тебе скажут? Хотел бы я посмотреть, в глаз тебе дадут или тоже пристрелят…
– Мы знаем, кто он. А они не знали.
– Так и я не знаю. Не знаю. Кто я? Бухгалтер. Моё дело – чужие деньги считать. А тут – дело научное. Или ты много знаешь? Может, фокус это, обман зрения. Нам что сказали: вот оно, чудо-юдо! Смотрите, осторожнее. Мужики спьяну наболтали что-то. Кто-то видел. Где доказательства? Где? Совесть моя чиста.
Знаешь, мне ведь бог здоровья не дал крепкого, в детстве пацаны проходу не давали и в армию не взяли. Искать – ничего не искали. Как увидели, сразу белый билет выдали. Потом – техникум. Кого – в механизаторы, меня в бухгалтеры.
И на селе то же житьё-бытьё. Кого-то поощряли, премии, фото в газетах, а бухгалтер, он что? Когда жена умерла, свет в окошке погас. Думал, руки наложу. Выжил. Скрипел, но выжил. И собачонка эта всегда со мной, будто сторожила, чтоб я, значит, чего плохого не сделал. Понимаешь? А они её пристрелили. Есть у меня способ защититься, я им воспользуюсь, и ты мне не мешай, Николай, не мешай. Я себя человеком почувствовал. Могу за себя постоять.
– Нет, я пойду, пойду предупрежу… Совестно как-то. Не знаем, что он учудить может.
– Я тебя не держу. Иди, иди. Может, поумнеешь, когда они тебе морду-то разобьют, чтобы голову не морочил. Идёшь?
– Пойду.
– Ну и дурак ты, ваше благородие. Ничему тебя жизнь, видать, не научила.
Они разошлись. Один бодро зашагал к селу, второй, всё ещё раздумывая и сомневаясь, плёлся к баньке, но не дошёл, в лес свернул.
Когда банного убили, батюшке сразу донесли. Вбежал к бандюганам – сам не свой.
– За что вы душу невинную погубили? Он же, как ребёнок был! Изверги!
– Ты что, поп, гонишь, нахристосовался к обеду? Кто кого убил? Мы не при делах…
– Как не при делах, а кто парнишку убил? Сколько людей видело!
– Кто, где они, люди-то? Кто их знает, где они были? Ты за свой гнилой базар отвечаешь, батюшка? Иди, проповеди читай, неровен час, ласты склеишь, отпевать некому будет.
– Пошёл вон!
Спустили с лестницы отца Иоанна, а он не унимается.
– Господь свидетель! Он вас покарает. В ногах моих валяться будете, придёт час, и скоро придёт. Проклинаю вас всех и от церкви отлучаю!
А те – ржут. Один штаны снял, ягодицы оголил, и к священнику повернулся.
– Приложись, батюшка, Христос Воскресе!