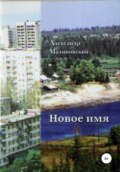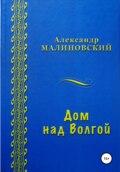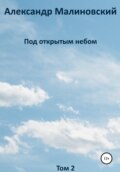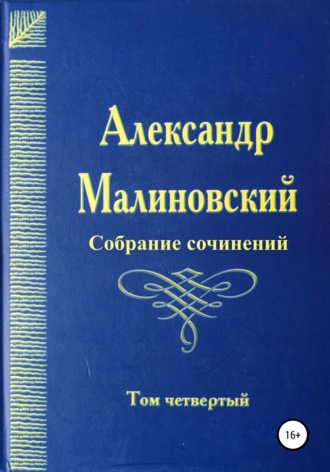
Александр Станиславович Малиновский
Собрание сочинений. Том 4
Дорога на сенокос
Почти у каждого из нас есть своё дерево, озеро или речка, с которыми связаны воспоминания о родном крае. А у меня есть ещё степная дорога. И теперь, перебирая в памяти все дороги, по которым мне пришлось шагать, я чаще других припоминаю её.
Сколько помню, мой дед всегда работал конюхом. Каждое лето с двумя-тремя лошадьми, но обязательно с Карим, здоровенным больничным мерином, дед отправлялся на сенокос.
На этот раз было решено косить в степи. После долгих и тщательных сборов во второй половине дня наконец тронулись. Жить в степи приходилось неделями, поэтому ехали с постелью, с бочкой для воды, с дровами. Со стороны это было похоже, наверно, на передвижение цыганского табора.
Выехали за околицу. Я пристраиваюсь поудобнее в рыдване, поддерживая рукой дребезжащую бочку. Слушаю дедову песню. Песня про липу вековую. Сколько бы я ни слушал эту песню, всегда стараюсь представить: какая она – липа вековая. Наверное, огромная. Я ни разу не видел вековых лип. Но мне кажется сейчас, что я чувствую её медовый запах, такой же, как у молоденьких стройных лип, которые стоят у речки за селом.
Голос деда подрагивает на ухабах, и, когда лошади замедляют бег, он так же протяжно и напевно трогает их:
– Но-о, калеки!
Это у него ласкательное – «но, калеки».
И мы едем дальше, наматывая серое полотно дороги на колеса рыдвана, как наша бабка наматывает свою пряжу на монотонно повизгивающую прялку.
Я много ездил с мужиками по полям, но очень редко слышал, чтобы кто-то так пел. Дедушка же, едва взяв вожжи в руки, запевал песню. Видно, однообразный бег лошадей, стелющаяся дорога, покойная равнина действовали на него, как вечная старинная мелодия, и он, словно камертон, отзывался на звуки её. Он не пел, он подпевал. И, когда слова песни кончались, дедушка пребывал в каком-то упоительном забытьи…
Время от времени я поддерживаю бочку, чтобы она на ухабах не перевернулась. Оглядываюсь на едущего следом в телеге Василича и шепчу в бочку:
– Порядок, ещё чуточку.
А из бочки:
– Папаня далеко?
– Тише ты, едет рядом!
– С кем это ты калякаешь один, садись ближе, чего поодаль причеченился, – дедушка подозрительно смотрит в мою сторону.
– Не-е, я тут.
И снова, немного помолчав, в бочку:
– Говорил: замри!
В бочке – Генка. Замысел прост и дерзок: заехать как можно дальше, оставаясь незамеченным, а там не высадят, не погонят домой.
Генку, несмотря на все уговоры, Василич – его отец – с собой не взял – велел оставаться дома пасти гусей. Гусей на Генкином дворе, по словам Генки, прорва. И всю эту прорву надо исправно каждое утро гонять на озеро за село, а вечером встречать.
– Нюрка справится сама, а не справится – братаны помогут, – решил одним махом Генка. У него уже три взрослых брата. Все они когда-то гоняли гусей на озеро. Но ни одного из них скорая на прозвища наша улица не отметила, а Генку, он уже и не помнит с каких пор, все зовут Гусиным богом.
…Обнаруживают Генку в бочке внезапно. У последнего по пути колодца (а не на дальнем полевом стане, как предполагалось) делается остановка для того, чтобы набрать воды.
Понимая всю остроту момента, но не находя выхода из него, я стою в стороне, смотрю на скрипучий журавль и старательно готовлюсь сделать изумленное лицо при появлении Генки. Так условлено – я ничего не знаю.
Руки деда принимают бадью из колодца со студеной водой, подносят к бочке. Мгновение – и вода в бочке.
Отвернувшийся дедушка не видит происходящего за его спиной. А там перед ошеломленными Серёгой и Василичем выскакивает, как суслик из норы, мокрый мой приятель. Он чихает, крутит по сторонам головой и неловко прыгает на землю.
Размеренной походкой, прихрамывая, прямо на него идёт его отец. Подходит. И не успевает Генка втянуть голову в плечи, как получает оплеуху. Но не больно. Оплеуха звонкая и не обидная. И глаза Василича не злые, а весёлые.
– Хныкать будешь, с первой же подводой снаряжу домой. Тоже мне партизан.
Он уже откровенно смеется. Смеется и Серёга:
– Хоттабыч из бочки, курам на смех!
Серёга и Василич стоят рядом, оба сильные, загорелые. Серёга на голову выше кряжистого отца Генки. Серёгу мы оба любим и знаем его силу. Прошлым летом, когда ездили косить сено в Моховое – болотистую и травянистую низину, Серёга шутя взял здоровенными руками своими рыдван за задок и потянул. Кобылёнка встала как вкопанная…
Бочка наполнена, мы трогаемся с места.
– Ну, отошёл?
– Почему не предупредил, когда воду начали лить?
– Не успел. А ты зачем так долго сидел в бочке?
– Думал, сперва будут лошадей поить.
Генка молча чешет ушибленную голову, ладошкой пытается вытряхнуть воду из левого надорванного, неровно сросшегося уха.
Обезображенное ухо – результат падения в самый глубокий наш двенадцатиметровый колодец.
Темнеет. Не стало видно сусликов по обочинам дороги. Лишь в небе все чаще шелестят утки. Провожая их взглядом, Серёга говорит шёпотом:
– Теперь бы на зорьке посидеть.
И опять тишина. Только степь вокруг да дедова песня.
В сумерках кажется, что дорога стала ровней и податливей. Стук копыт приглушенней. Кажется, что не только мы с Генкой, а и сама дорога прислушивается к дедушкиной песне, песне про липу вековую..
Степной чай
Так уж повелось, что мой дед отродясь не брал с собой на сенокос «чай» – засушенные с прошлого лета ягоды шиповника. В лесу непременно заваривал чай из листьев вишни или смородины, и он нравился мне несказанно своим неожиданным ароматом. Только как же на этот раз? Кругом степь, ни единого кустика. Но знаю: чай обязательно будет.
Ещё задолго до ужина начинаю теребить деда. А тот, видя моё нетерпение, только заговорщически подмигивает: «Мол, знаем, сделаем».
Я жду с нетерпением. И вот он – чай! Желтовато-зеленый, он так пахуч и ароматен, что просто не верится, что заварен вот из этих темно-желтых, невзрачных курчавеньких стебельков. Они растут всюду, даже около нашего стана, прямо в моём изголовье под рыдваном.
– Как он называется?
– Не знаю, чай, как же ещё…
– Но ведь должен он как-то называться, – я хочу знать и смотрю на деда, не отрываясь. Но он молчит.
– А давай наберем целую охапку и привезем домой, на всю зиму хватит.
– Нет, Шур, этот чай только там пахуч, где родился, на воле. Значит, и пить его надо на воле. – Глаза деда весело щурятся: – Вот привезем домой сено, из омета наберешь сколько душе угодно и пей.
…Вскоре, намаявшись за трудовой день, все засыпают. Только мне не спится. Тишина. Лишь храп лошадей чуть поодаль да запах скошенной луговой травы в изголовье.
Перед глазами бездонное августовское небо с бесчисленным скопищем звезд. Прохладно. Ныряю с головой под одеяло, становится душно, ворочаюсь и нахожу в одеяле дырки… одна, две. Приподнимаю одеяло на руках. Через крохотные отверстия виднеется небо. На темном поле одеяла эти кусочки неба кажутся звездами. Само одеяло уже представляется небом.
Одеяло похоже на небо, а небо на одеяло!
…Утром просыпаюсь рано. Необычно рыжее солнце показывается из-за горизонта. Словно раскаленное дедушкино точильное колесо, оно краем своим, врезаясь в прохладную синь неба, высекает звонкие и колкие лучи.
Необъяснимое чувство восторга охватывает все моё мальчишеское существо. Я выскальзываю из-под одеяла и по прохладной траве босиком бегу навстречу солнцу, оставляя за собой изумрудную тропинку в сонной, разнеженной траве. Хочется петь, кричать, падать на траву, вскакивать и опять бежать по зеленой равнине без конца и края. Так вот она какая – степь!
Набегавшись, иду, притихший, к стану, уже дымящему утренним костром. Возвращаюсь, не сознавая наивным умом своим неповторимость всего происходящего. Не предполагая, что через два десятка лет в уютно обставленной городской квартире будут не давать мне спать по ночам эти воспоминания. И об этой поездке в степь, и о чае, вкуснее которого не было и не будет…
Мишкина песня
Выбраться за голавлями к дальнему мосту через Самарку было давнишней нашей мечтой. В тот раз мы всё-таки достигли своей цели. Мы – это Колька, Мишка и я.
Солнце уже спряталось за гору. Духота спала. Над плесом легкий слоистый туман. Тишина. Лишь у Колькиных ног, у старой почерневшей сваи, бьется и ходит на длинном кукане красавец голавль. В тишине нет-нет да и ухнет у самого берега, словно обвалится круча, прижившийся в омуте сом. И вновь тишина. Но что это? На бугре, над самым спуском к мосту взметнулась песня. И через какую-то минуту по шаткому мосту уже двигалась колонна молодых, веселых, в запыленных гимнастерках солдат.
Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты.
А дорогою степною
Шли домой с войны советские солдаты…
На нас нашло оцепенение. Поразила песня. Все в ней было верно. И то, что солнце скрылось за горою, и то, что туман над рекой, и что дорогой, пусть не степной, но шли солдаты, не с войны, но шли… Такую песню мы ещё ни разу не слышали. Солдаты уже были на другом берегу реки. Первым опомнился Колька. Вскочив на середину моста, вспорол смыкающуюся после песни на речке тишину:
– Э-ге-гей!
И долго потом махал кепкой вслед затихающей песне. Усаживаясь на толстое бревно, сказал восхищенно:
– Мировецкая песня! Чур будет моя!
– Мировецкая, – как эхо повторил Мишка, – только недописанная.
– Что? – ошарашено посмотрел на него Колька.
– Недописанная, говорю. Про то, как шли с войны есть, а как домой пришли – нет.
– Тоже критик, это же песня. Может быть, народная.
– Все равно, народная – это когда просто забывают, кто написал песню.
Но, видно, в Колькиной голове никак не может уложиться то, что такую песню кто-то взял и сочинил. Недовольно повозившись, он демонстративно пересаживается от Мишки, громко шлепнув удочкой по воде. Но, немного помолчав, не выдерживает и примирительно тянет:
– Миш, а кем твой отец был на войне?
Мишка отзывается не сразу. Глядит в одну точку на воде, потом кратко отвечает:
– В пехоте.
Мы с Мишкой соседи, и я знаю, что он никогда не донимает отца вопросами о войне. Не любит рассказывать дядька Степан о себе. Известно, что он около трех лет пробыл в плену, воевать довелось мало, и что освобожден он был вместе с другими в тот момент, когда немцы подожгли при отступлении соседний барак с пленными. После войны проболел около пяти лет – сказались лагерные побои, намаялся по госпиталям…
Сильнее всего врезалось в память последнее возвращение дядьки Степана из госпиталя. После двух операций вернулся он с укороченной ногой и негнущейся спиной в корсете. Сейчас этот кожаный со стальным каркасом корсет, отслужив свою службу, пылится на погребице весь изрезанный вдоль и поперек – мы часто с Мишкой вырезали из него кожу для рогаток, хорошая была кожа, блестящая…
На конце каждого костыля дядьки Степана было вбито по гвоздю для надежной опоры. От прикосновения костыля на полу оставалась свежая ямка. За год, который проходил Мишкин отец на костылях, весь пол в избе стал как наперсток. Прошлым летом, когда дядька Степан стал ходить без костылей, доски заменили, но несколько штук в кухне да в Мишкиной спальне осталось. В спальне их перенесли на потолок. И теперь, когда Мишка ложится в кровать, они – перед глазами.
– Тебя отец часто бьет? – донимает Колька.
– Не, не бьет совсем. Он добрый, даже, когда скотину режут или там голову курице надо оттяпать, уходит, чтобы не видеть.
– Мели больше?!
– Точно, мамка говорит, что он после плена таким стал.
Помолчали.
Нас с Мишкой соединяет тайна.
В прошлое воскресенье, когда мы ночевали с ним в их приземистой мазанке, роясь в книжках на самодельной полке, я вдруг наткнулся на общую тетрадь с темно-синими плотными корками. Прежде, чем Мишка успел вырвать её из моих рук, я прочел надпись в середине первого листа. «Бои после победы» – было написано Мишкиным пляшущим почерком, а в самом верху листа стояло: «Михаил Вдовин».
То, что Мишка уже полгода пишет повесть о своём отце, меня ошеломило. Я перешел в шестой класс, много перечитал в нашей школьной библиотеке из того, что дают только старшеклассникам, знаю, что книги пишут люди. Но эти люди для меня как боги. Живут они где-то далеко-далеко.
Прошлый год моя бабка, возвращаясь из леса, нашла оброненный кем-то на проселочной дороге сверток. Когда мы развернули его, то были очень удивлены. В свертке оказалось десять портретов русских писателей. Единственный, кого узнала моя бабка сразу, был Горький. Остальных она долго разглядывала, читая вслух фамилии по нескольку раз.
В тот же день, сварив клейстер, мы наклеили портреты на саманные беленые стены под самым потолком. Все на одной стене не умещались, пришлось клеить по пять штук с разных сторон от переднего угла с иконой.
Левый ряд от иконы начинался со Льва Толстого, правый – с Пушкина. Только с Достоевским у бабки вышла заминка. Если Пушкину и Толстому она сразу отвела место во главе каждого ряда, а остальных поместила по известному только ей закону, то около портрета Достоевского бабка долго сидела задумавшись, неотрывно глядя на нервные сухие руки писателя. Она потом и приклеила его чуть поодаль ото всех…
Но как быть с Мишкой? Мне и верится, и не верится, что он пишет повесть. Я подолгу стою посреди избы, прицеливаясь в конец портретного ряда, представляю, как все будет выглядеть, если поместить туда и Мишку. Но ничего не получается. До обидного своим и понятным выглядит наш Мишка. Вот если бы борода была или хотя бы пенсне, тогда, может быть, другое дело, да и то его наши все сразу бы узнали.
С той самой ночи Мишка взял с меня клятву молчать.
Неразговорчивость дядьки Степана вошла давно в поговорку на нашей улице, поэтому каждый раз, когда дядька Степан выпьет, Мишка старается быть поближе к нему. Дядька Степан болеет «тракторной болезнью». Так говорит Мишкина тетка. Под хмельком дядька Степан, сразу начинает со всеми заводить разговоры про тракторы. У него не гнется спина и правая нога, оттого-то как раньше, до войны, работать на тракторе он не может. Поэтому и говорит так много про них. Мишка утверждает, что, будь его отец здоровым, они давно бы махнули поднимать «матушку-целину». И махнули бы.
Мишка уже кое-что знает про солдатскую жизнь отца. Записи в его тетрадке увеличиваются.
– Надо до сентября обязательно дописать, – говорит он. – И в первый же день покажем Виктору Петровичу.
Мишка говорит не «покажу», а «покажем», и я благодарен ему за это.
Теперь каждый вечер, когда все заснут, я выхожу потихоньку на улицу и смотрю через дорогу на Мишкину мазанку. Там в занавешенном оконце тускло, но настойчиво пробивается в настоенной на летних запахах тишине, свет. Мишка спешит. Скоро наступит срок.
– Ты пиши. Мишка, все опиши, – шепчу я в тишине, – пусть все знают, какой дядька Степан, как он вынес Миньку Сухова раненого из первого боя. Миня про это из госпиталя писал, а то бы мы никогда и не узнали. И, если можно, напиши немножко о моём отце. Только ты не напишешь. Я знаю – никому неизвестно, где мой отец. Но ты хоть напиши, что был такой человек – без вести пропавший – мой отец.
Я наверняка знаю, какую первую фразу скажет наш учитель русского языка Виктор Петрович.
Взяв в руки Мишкину синюю тетрадь. Он скажет:
– Опять ты Вдовин меня озадачил. – У него любимое слово: «озадачил». – Ведь я же давал тему для домашнего сочинения «Мои летние каникулы».
И долго будет потом задумчиво ходить меж рядов, подергивая обтянутыми гимнастеркой плечами, пока не заговорит горячо и торопливо, краснея лицом и размахивая в такт словам единственной уцелевшей на войне рукой.
Школьная уборщица тетя Даша говорит, что Виктор Петрович и мой отец очень похожи. Не знаю, я своего отца не видел никогда живым. Я родился после того, как он ушёл воевать. А на маленькой единственной школьной фотографии, которая висит в передней, он моложе меня, так что и сравнивать нельзя.
Память и… совесть
Дмитрий Трофимов, вопреки своему обычаю, в воскресенье на базар не пошёл, а проплотничал все утро на пустыре около Юрьевой горы. Правил ограду у памятника на месте расстрела первых организаторов Советской власти на селе.
Я подошёл, когда Федор Петрович, председатель сельсовета, мужчина небольшого роста, степенный и властный, принес десятку за труды. Трофимову загорелось выпить. Федор Петрович, несмотря на выходной день, был при исполнении обязанностей и Трофимов потянул меня пойти с ним:
– Можешь не пить, но из уважения посиди.
И мы пошли в столовую. «Заодно позвоню в райцентр старому знакомому», – подумал я.
За столиком в углу сидел Степан Коньков.
– Ну вот, есть с кем и помянуть, – угрюмовато произнёс мой спутник.
Мы, как у нас говорят, поздоровкались. Когда Трофимов поднял стакан и расправив широким жестом усы, провозгласил тост за советскую власть и его, Дмитрия Трофимова, солидный вклад в строительство нового «обчества», Степан поставил стакан на стол и наотрез отказался пить:
– Я хоть, Митрич, и был мальцом, а помню, какие ты вклады делал. Вот тебе вложить горячих тогда некому было, это точно. Все у тебя кумовья да сваты. За что нашего Серого на третий день, как свели со двора, ухандокал?
Трофимов молчал.
Потом из отрывочных фраз я понял, что ему, очевидно, не трудно было вспомнить тот далекий первый год коллективизации, когда в весеннюю ростепель, остаканившись с приятелями сивухой, вздумалось ему, новоиспеченному колхозному конюху, по синему ломкому льду Самарки перебраться на правый берег к своей зазнобе. Дмитрия вытащили из воды, а Серого не смогли – со всей упряжью пошёл под лед.
Глядя на седеющего грузного Степана, я видел его заплаканным лобастеньким мальчишкой в отцовской кубанке – таким, каким тот был, по его рассказам, в ту далекую пору. И уже не в первый сегодня раз удивился, а потом и ужаснулся быстротечности жизни. Опорожнив свой стакан, Трофимов встал из-за стола. Я попрощался со Степаном, и мы вышли. По пути домой Трофимов вслух зло рассуждал:
– Вот, бестия, помнит все. Не их уже меренок был – колхозный, а все равно зуб имеет. А оно хоть и верно, зазря мере-нок погиб, – запоздало покаялся он.
Что-то похожее, видимо, на угрызения совести проклюнулось в нем, но он тут же одернул себя:
– Степка – подкулачник проклятый! Как таких только земля держит…
Трофимов не привык быть виноватым.
Бабка Мариша
Я знаю её только старухой. Ей уже давно за восемьдесят. Живет она одна, все сыновья погибли на войнах. Муж в давние лихие годы уехал в чужую дальнюю сторону на заработки, да так и не вернулся. Возвратившиеся мужики рассказывали, что одолела его в пути какая-то страшная хвороба. Его и зарыли там, в чужой земле. Я его знаю только по желтенькой фотографии, которая висит неизменно на одном и том же месте. А рядом иконы. Много она перенесла горя и ни разу, как ей кажется, Всевышний не вмешался.
– Прогневила чем-то… Или не до нас ему?.. – тихо говорит она старушкам, которые наведываются к ней и притворно серчают на неё во время таких разговоров. И сама она качает головой, осуждая себя за такие слова.
Она часто думает о прошлом. Время неудержимо рвется вперед, а она чаще там – в прошлом, со своими заботами, их так много было у неё.
Маленькая, светящаяся изнутри необъяснимым, мудрым светом, она смотрит на мир своими добрыми глазами, видавшими голод, смерть, и улыбается этому вечному миру, в котором по чьей-то забывчивости все ещё живет. И думается мне, когда я смотрю на неё, что к старости в человеке все мрачное и угрюмое пропадает и остается только то светлое, что было заложено при рождении и что встретилось ему в его долгой и такой мгновенной жизни.
Иногда мне хочется представить её молодой. Какая она была тогда, у истоков своей жизни? От природы ли чистая и ласковая она, или это жизненные невзгоды и неудачи сделали её такой светлой, желающей всем добра и счастья?
…Каким я приду к своей старости?
Выпь
Возвращался ночью с охоты. На болоте кричала выпь. От свинцово-тяжелой воды, от осеннего задумчивого леса веяло таинственной и недоброй силой.
Но что поразительно, голос выпи, от которого в детстве сжималось сердце и хотелось бежать как можно дальше, теперь был вовсе не страшен, а наоборот, заставлял остановиться и прислушаться. И не только к себе, но и к другим звукам живущего своей жизнью болота, доставляя удовольствие маленькими неожиданными открытиями.
– Удивительно! – говорил мне на следующее утро мой дядя, давний охотник и рыболов, приехавший на два-три дня к старикам в деревню. С тех пор как я не живу здесь, где родился и вырос, а лишь изредка наезжаю, все тутошние вороны, мне кажется, начали кричать по-журавлиному.
Балагур и острослов, он сейчас не смеялся. Мы давно научились понимать друг друга, может быть, даже раньше того самого дня, когда вслед за ним и я покинул край моего детства…