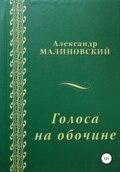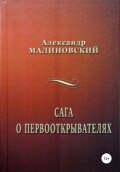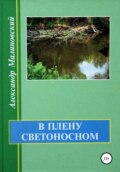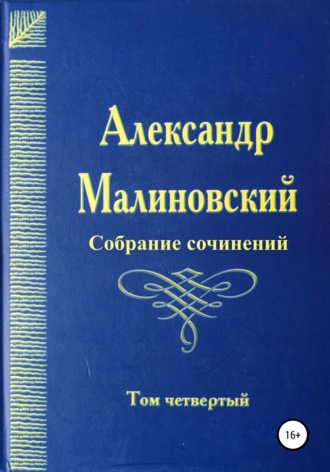
Александр Станиславович Малиновский
Собрание сочинений. Том 4
Березовая удочка
Вчера, перебирая заброшенные рыбацкие снасти, наткнулся на крючок, сделанный из простого гвоздя. И вспомнилась одна из самых ярких картин детства.
Все началось с первой моей собственной берёзовой удочки. Её сделал мой дед. Делалась она так: облюбованную березовую заготовку, только что срезанную, он крепил на длинной доске гвоздями, исправляя все кривулины, и клал на несколько дней на просушку. После снимал её, прямую, и специально для крючков привязывал к удочке замоченную в кадке кугу, крепко стянув её в трех местах лыком. Поплавки он выстругивал из ветловой коры.
Первое, что я сделал – побежал показывать удочку Кольке. Рядом с моей удочкой Колькина выглядела обыкновенной хворостиной. Наскоро накопав под поющим на все лады мостом червей, мы отправились на Самарку.
Не помню, первой ли была эта поклевка или нет, но помню, как мой поплавок, прибившийся в омутке к коряжке, не спеша погрузился под воду – так бывало, когда был зацеп. На всякий случай легонько дернув, я вдруг ощутил непривычную, но податливую тяжесть, руки инстинктивно рванули удочку. Она согнулась до воды и словно выстрелила. Поплавок метнулся в воздухе и отвязался. Когда я, не чувствуя боли в ушибленном колене, бросился к добыче, на крючке сидел огромный, клешни больше ладони, флегматичный рак. Было и досадно, и удивительно. Досадно от того, что в те мгновения бессознания, когда я рвал удочку из воды, ожидалось, что на крючке будет кто-то большой и таинственный, а удивительно от того, что на червяка попался простой, хотя и большой, рак, каких мы с Колькой ловили просто на бечевку, привязав на конец мясо ракушки.
Решив выкупаться, поставили удочки на живца и уплыли на противоположную сторону речки на прогретую песчаную косу.
– Смотри, смотри, – Колька показал пальцем в сторону наших удочек.
Я оглянулся. Здоровенный парень из соседнего села, Стёпка, взял Колькину удочку, отвязал поплавок, кинул его под ноги в воду. Удочку воткнул у своих ног рядом со своими донками. Мы рванули обратно.
– Что вы понимаете в рыбалке, пескари несчастные, кыш отседова и не шуметь.
Вылезая из воды, Колька попробовал канючить:
– Степка, а Степка, отдай, мне за неё тятька задаст, без спроса взял.
– Надоедать будешь, я задам. Буду уходить домой, отдам.
Дальше просить расхотелось, хотелось подойти потихоньку сзади и дать по Степкиной красной шее, но было страшновато, Степку даже некоторые наши мужики побаивались.
– Жди, отдаст, как же! Скорее переломает. Пойдем домой, Шурка, пока светло.
– Коль, давай пока порыбачим, может, взаправду отдаст. – Мне ещё хочется верить в Степкину порядочность.
Теперь уже одной удочкой мы ловим пескарей и окунишек. Насаживаем их на длинный кукан и ждем Степкиной доброты.
Вдруг около упавшей поперек реки в половодье осины кто-то словно невидимым веслом раздвинул толщу воды и хлопнул по ней. Минут через десять после нового всплеска мелкие рыбешки выбросились из воды.
– Сом, – определил Колька, – на, – он протянул мне удочку, – я знаю, что надо делать. У тебя крючки есть?
– Есть.
Я достаю из фуражки крючок.
Колька снимает с кукана окунишек и выпускает их, они нам теперь ни к чему. Привязываем крючок к капроновой бечеве, бечеву – к коряжке, торчавшей в воде у ног, и через минуту наш один-единствснный пескарик с крючком в спинном плавнике, обрадовавшись обманчивой свободе, исчезает в воде.
Решено, пока не поймаем следующего пескаря, не проверять нашу снасть.
Забыто все: и Степка, который сидит метрах в тридцати от нас за мыском, и то, что уже темнеет. Но, наконец, пойманы один за другим два пескаря. Дрожащей рукой нащупываю поводок, но рука чувствует досадную легкость.
Что это? Пескаря нет, а крючок разогнут так, что стал похож на маленький гарпунчик. Отвязав крючок от удочки, ладим заново свою снасть и насаживаем другого пескаря. Колька бросает снасть в воду. Теперь мы уже не можем отойти от этого места. Оно не отпускает, завораживает, заставляет забыть обо всем, даже о моей берёзовой удочке. Когда Колька, не вытерпев, вскакивает и берется за бечеву – становится жутковато. Рывком дёргает – бечева легко подаётся, и вот в Колькиных руках сломанный пополам крючок. Долго сидим неподвижно. Обидно. Словно желая ещё больше досадить нам, под самым Колькиным носом (Колька забрался на лодку напиться) сом поднимает бурун. Совсем уж нахал распоясался.
И тут-то происходит чудо. Колька вскрикивает и хватается за голень. В штанине у него торчит забытый кем-то в лодке самодельный, величиной с палец, крючок из гвоздя. Торопясь, мы восстанавливаем свою снасть. Уже поздно. Решено завтра, как погонят коров, прийти проверить. Степки уже нет на своём месте, нет и моей удочки. Мы бежим по песчаной дороге домой. Страшновато. Но признаваться в этом не хочется. Для бодрости поем все песни, какие только знаем…
Колькину мать мы уговариваем разрешить ночевать нам вместе в нашей сельнице.
…Утром по холодному песку спускаемся к заветному омуту. Солнце ещё не поднялось. Над водой тянется слоистый белесый туман. Около нашей коряжины на мыске метрах в десяти сидит Степка. В руках у него моя удочка.
Нащупав в воде поводок, Колька разочарованно смотрит на меня – леска идёт свободно. Но вдруг он с силой рвет её на себя и падает животом на что-то огромное и страшное. Продолжая борьбу уже в воде, мы выволакиваем скользкое чудовище на берег. Ошарашенный Степка бросает свои удочки и идёт к нам.
– А ну, рыбаки, дай гляну.
– Драпаем!..
Колька хватает добычу за жабры, я пытаюсь взяться за скользкий пегий хвост… Вот мы уже на высоком берегу. Когда густые ветви сомкнулись за нашими спинами, мы остановились перевести дух и осмотреть добычу. Чумазый, весь в пиявках, сом был Кольке от пят до подбородка. Наши руки, рубахи и штаны покрылись липкой слизью и прилипшим песком. Счастливые, мы трогаемся в путь. День только начинается, до вечера далеко – можно ещё вернуться на рыбалку…
Лист семижильника
Растение это по-книжному называется по-другому. Только моя мама зовет его семижильником. Растет оно обычно в тени, на влажных местах, чаще на лесных дорогах, проходящих по оврагам и близ озер. В степи семижильник встречается реже. Его везде безжалостно мнут копыта лошадей, колеса телег. По нему, обжигающему босые ноги прохладой, бегают ребятишки, забравшиеся вглубь леса.
До поры до времени его не замечают, но когда вдруг нога наткнется на битое стекло или гвоздь и рана потом начнет гноиться – обязательно найдется человек, который вспомнит об удивительных свойствах семижильника. И он, этот прохладный зеленый лист, своими семью жилочками, как щупальцами, накроет рану. Пройдет время, и рана очистится, опухоль спадет, а листок, ещё недавно зеленый, засохнет, пожелтеет и пропадет совсем. И опять все забудут про это неприметное растение. Но забудут только до поры.
Завидная судьба у семижильника.
Истоки
Стоял конец августа.
Устав от назойливых поклевок мелочи, я собрал свои нехитрые рыбацкие снасти и направил лодку к берегу, напротив Кунаева ключа.
На пологом речном берегу доцветали голубые васильки. Не слышно было привычной щебетни в поникших над водой ивовых кустах.
В задумчивости смотрел я на непривычно пустынную и тихую речную даль, когда внимание моё привлекло странное светлое пятно. Словно большая бабочка, оно трепетало то у воды, то высоко на круче. Пятно приближалось. В этом месте речка выпрямляется и течет почти по прямой метров двести, поэтому-то я и смог видеть все происходящее на берегу.
До рези в глазах всматривался я в трепещущий светлый клинышек, и наконец понял: это же мальчишка. Совсем маленький мальчишка в белой рубашонке!
Но почему один в такой дали? До нашей Утёвки километра три, но ведь он идёт совсем в противоположную сторону, по направлению к поселку Красная Самарка, а до него совсем не близко.
Я стал с нетерпением ждать приближения мальчишки, гадая, пройдет он стороной по круче или мы встретимся. В полусотне метров от меня он неожиданно вынырнул из кустов, шумно плюхнулся в речку, набрал в фуражку воды и, хватаясь за оголенные корни, влез на кручу. Встревоженный его долгим отсутствием, я стал внимательно всматриваться в кустарник. И, когда заметил синюю струйку дыма, не раздумывая, поторопился к нему.
В глубине леса, чумазый, сорвав с себя мокрую рубашку, он бил ею, не останавливаясь, со всего плеча, по шипящим змейкам огня, обжигая пятки, перепрыгивал с места на место. Высушенная за лето трава пожиралась огнем со страшной быстротой, огонь десятками юрких ящериц ускользал из леса на опушку, на простор.
…Когда с огнем было покончено и мы устало опустились на черную землю, он сказал:
– Деда Матвея работа, точно.
– Это которого же Матвея?
– Да нашего Самосада, сторожа с паровой мельницы, он меня обогнал с удочками совсем недавно. От его самосада пожар…
Кого-кого, а Матвея Чугунова, по прозвищу Самосад, я отлично помнил. Как и большинство жителей села, он имел свою особинку: многие из мужиков здешних курили самосад, но такого крепкого и ароматного, какой готовил он, ни у кого не было. Секретом владел старик, за что и был отмечен прозвищем.
Спускаясь к воде, украдкой я присматривался к мальчишке. Я узнал его: Лёнька – сынишка Трохина, бригадира тракторной бригады. Ему лет десять. Ладненькая фигурка, у пояса на ремне самодельный нож и старенькая сумка, в руках стеклянная банка. На загорелом подвижном лице сама озабоченность.
– Ну и куда путь держишь, путешественник?
Он тут же отозвался на вопрос вопросом:
– А откуда вы знаете, что я путешественник?
– Да уж видно по снаряжению.
– Бабка у меня в Крепости (так ещё у нас называют поселок Красная Самарка), мамка отпустила к ней в гости.
Он приселу воды и поставил банку на песок. Взглянув на неё, я понял, почему он так странно шёл по берегу – в банке были стрекозы, десятка два.
– А что, не побоялась мамка тебя одного отпустить?
– Не-е, я же не в первый раз. – Он встал, собираясь уходить.
– Ну раз так, пойдем к лодке чай пить.
– Спасибо, дяденька, мне некогда, а еда у меня в сумке есть.
Так я и не смог с ним разговориться. Надев мокрую (в дороге высохнет) рубашку, он ушёл.
– А ведь нет никакой бабки у него в Крепости, – скорее догадался, чем припомнил я.
…Вечером, возвращаясь в село, я все же решил проверить свою догадку и свернул к дому Трохиных, того самого Трохина, который в нашем детстве был едва ли не героической фигурой. Ему, сыну конюха, колхозное начальство доверяло объезжать молодых лошадей, что он и проделывал самоотверженно, поражая нас нездешней ловкостью и лихостью.
У новых тесовых ворот, чертыхаясь, отрывисто что-то говоря жене, располневший Трохин садился на дрожавший мотоцикл.
Когда я подошёл, Ленькина мать пояснила:
– Опять поехал искать нашего путешественника. Вот наказание-то. Хоть не выпускай из дому. Вбил себе в голову составить карту всей нашей местности – и все тут. Вот теперь, говорят, вверх по речке ударился… Колумб доморощенный. Вы бы хоть зашли как-нибудь к нам, поговорили с ним. Может, вас послушает, у моего терпенья уже не хватает.
Что я мог ответить ей, если у меня у самого хранится собственноручно составленная в детстве карта речки, начиная от нашего села и до ближайшей деревеньки. Если нас самих с Трохиным, когда-то задумавших добраться до верховья к истокам речки и оттуда спуститься на плотах, вернули с полпути, не дав осуществить одно из самых сильных желаний детства – отыскать начало родной речушки, увидеть тот родничок где-нибудь в осоке или под валуном, который дает жизнь целой многошумной речке.
…Истоки… Они и сейчас манят неодолимо, неся в себе намного больше смысла, чем в детстве. Это и ветла у дороги, разбуженная серебряным звоном отбиваемой в утренней рани косы, и наша саманная беленая изба, в которой, взрослея, я впервые не смог заснуть майской короткой ночью от щемящего и неожиданно осознанного чувства жгучей связи и с раскатами весеннего грома, и с первыми крупными каплями дождя, упавшими в распахнутое окно, и с пьянящим настоем сирени в посвежевшем и мокром саду. И – многое-многое другое…
Государственный человек
Случилось мне как-то, ещё мальчишкой, работать с мужиками в добровольной артели на заготовке дров для школы. Время было суровое, послевоенное, поэтому директор обратился за помощью к родителям.
Артель подобралась пестрая и разноголосая. Но мне сразу же приметился один старик, ладный, крепенький и удивительно добродушный. В школе у него никто не учился, но он настоял, чтобы его взяли. Потом я узнал, что зовут его деревенские мальчишки Курягой. Так у нас в деревне называли подсушенные на противне в печке сморщившиеся ломтики тыквы. Особое удовольствие было нам, ребятишкам, есть эти ломтики в тепле, в зимнее время, стосковавшись по овощам и фруктам. Отчего присохло это прозвище к нему, не сразу скажешь.
Мальчишка, я старался работать быстрее и лучше всех. Уже то, что я трудился вместе со взрослыми мужиками, не давало, по моим понятиям, права работать вполсилы. И мне сразу же не понравилась в Куряге какая-то особая медлительность и в то же время суетливость.
«Старик уже, – думал я, – а работать так и не научился или вовсе не хотел».
Разгадка пришла позже, когда все отправились на ночлег в ближайшую деревеньку. Мы шли рядом, до ближайших изб оставалось метров двести, он вдруг спросил:
– Что, до деревни-то далеко?
Я оторопел, мне показалось, что он меня разыгрывает, ведь деревня лежала перед нами как на ладони. И вдруг я понял – он полуслепой, этот старик, работавший бок о бок со мной весь день.
– Да, зрение меня подвело, – словно отвечая на мои мысли, проговорил он.
Меня поразило то, что старик угадал, о чем я думаю.
– Но слышу я очень хорошо.
И он как-то по-особому посмотрел на меня.
Я вздрогнул, мне показалось, что Куряга слышал мои мысли о нем там, в лесу…
…Сегодня, возвращаясь сонной июльской улицей домой, вновь встретился с Курягой. Вел он себя как-то странно. Подойдя к стоявшему трактору, припал к работающему на малых оборотах двигателю, прислушался. Дрожащий «Беларусь» затих. Я догнал старика, когда он бодрым шажком направлялся к совхозному грузовику. Старик молча погрозил кому-то в пространство кулаком:
– Один к девкам побежал, а другой за пивом стоит. Работнички. Вот и приходится сторожить.
Дрожащей рукой, дотянувшись, выключил зажигание. Дремавший в кабине парень, равнодушно зевнув, опустил фуражку ещё ниже, на самый подбородок.
– Добро на ветер летит. Хватит, на правлении ставлю вопрос ребром. Я так думаю, что судить таких надо. Ведь все горючее из неё, из землицы, добыто! Так что же? Для того буровые день и ночь вокруг села гудят, чтобы такие вот (махнул в сторону дремавшего парня) небо зазря коптили. Вон он и не ворохнулся, а я ему прошлый раз чуть не цельную лекцию прочитал. А сколько таких по стране? А? Не по-государственному это…
Скворцы
Самые дорогие мои воспоминания связаны с друзьями детства. Были среди них Мишка да Колька. С Колькой мы подружились не сразу. Если мы с Мишкой заводили голубей, то Колька их самым наглым образом крал. Если мы в самой непролазной чаще лесной делали землянку, Колька её находил. Он появлялся и исчезал всегда неожиданно. И не было предела его хитрости. Но особенно нас возмутила одна его выходка. На наших глазах он с одного выстрела из рогатки сбил с Мишкиной скворечницы восторженного певца…
А сдружили нас те же скворцы. Умерла Колькина мать. За неимоверную худобу её, за большой рост, а может, за вечно тяжёлую, однообразную, обременённую нуждой и невзгодами жизнь прозвали её с чьей-то легкой руки Неделей. Мы боялись её. Было в ней что-то трагически мрачное. Стала ли она такой после того, как узнала, что война сделала её вдовой, или уже потом, когда с поля старшего сына привезли мертвого, изрезанного лемехами на пахоте, – неизвестно. Только и сама она после этого случая протянула недолго. Умерла быстро и безболезненно весной, перезимовав суровую зиму.
В этой истории нас с Мишкой, отец которого делал гроб Неделе, может быть, больше поразила не сама смерть и не покойница, которая лежала в передней, а глухая зияющая яма в полу, чуть поодаль от гроба. Едва переступив порог, я сразу заметил, как затравленно отвернулся от этой пропасти Мишка, почувствовал, как самому нечем стало дышать. Казалось, смерть пришла к хозяйке именно из этого мрака.
Неделя, Неделя, она не рассчитывала на свою смерть, не думала, где соседи будут брать доски на гроб, да ещё такой огромадный. А их нашли быстро. И теперь прямо около гроба торчали сопревшие перерубы, так что и постоять-то желающим было негде.
Не знаю, по какому-то наитию или с твердой и ясной мыслью действовал Мишка, только на другой день после похорон повел он меня на Неделин двор. Вернулись мы с обрезками досок, тех самых, что пошли на гроб. Ещё через день над вечно угрюмым и пустым двором Недели на старой ветле появилась скворечница.
А наутро я, Мишка и Колька уже сидели на пороге сеней и сосредоточенно смотрели вверх. Мы ждали скворцов. Они обязательно должны были прилететь…
…Недавно я побывал на том месте, где стояла изба Недели. Места совсем не узнать. Избы нет. Только ветла цела. Умерла Неделя, остался в морфлоте после четырехлетней службы крепко заряженный на жизнь Колька, а ветла как стояла, так и стоит. Трудно определить, сколько ей лет, этой ветле. Все такая же.
С грустной и, в общем-то, не новой мыслью – вот, мол, все не вечно, все проходит – бродил я около земляной кучи с соломой, сдвинутой в сторону бульдозером – саманной избы Недели, когда вдруг услышал сначала робкий, но через минуту уверенный в своём праве на песню голос скворца. Несмело (не ослышался ли?) подошёл поближе и увидел в самой гуще листвы скворечницу, а под ногами – свежие обрезки пахучих сосновых досок.
Глядя на работающих молодых строителей, гадал: кто из них приютил певца? Тут же подумал: а не все ли равно, кто? Главное, что жива песня, что продолжается чье-то детство.
Совсем уже было собрался уходить, когда к самой ветле лихо подкатил бульдозер. «Неужели и ветлу?» – метнулась мысль. Но дверца кабины широко распахнулась, и оттуда вывалился широкоплечий парень в тельняшке.
– Колька! Ты ли это?
Через несколько минут мы уже сидели рядышком на бревнах. Я указал вопросительно на сдвинутую в сторону кучу самана.
– Я! И это – я, – Колька показал на скворечницу. – И это – я, – он ткнул себя в грудь. – Как с Морфлотом? – переспросил он. – А никак, потянуло домой – и все. А что потянуло – сразу не сказать. Спроси вон у них, – он опять кивнул в сторону скворечницы, – они не в первый раз вернулись…
Дедова хитрость
У поросшей лебедой завалинки деда Андрейки последнее время вечерами стали собираться старики. Сидят, не спеша о чем-то своём беседуют.
Раза два намеревался подойти, не получалось – опаздывал. Вот и сейчас, пока убирал удочки и умывался, разошлись старики. Один дед Андрейка сидит около своей баньки, бодро светится его беломорина. Подошёл к нему.
– Скучноватые, все о смерти калякают, а я о ней лет в сорок свои как передумал, так и точка. Теперь замечаю, если человек правильно свою жизнь прожил, то к старости спокойней говорит о смерти. Вон Коршунов Матвей злобствует, матерится на современную молодежь, а причина вся в том, что ему пора в мир иной, а молодежи – веселиться. Пропил все своё времечко, опохмелился – поздно. А то, что беззаботная эта молодежь не видит того, что не хочется Матвею уходить, так ведь и мы такими были в молодости. Думали – молодым вечно жить, а старикам на покой. А оказалось, молодость не вечна. Я как представлю, что каждый день тыщи стариков уходят, уступая место под солнышком таким вот горластым пузанам, как Варькин, так собственная моя смерть становится понятной и законной. В природе все справедливо на этот счет. Делай своё дело хорошо – и в этом весь смысл. Вот к этому я пришел тогда, лет сорок назад. Ну, хватит об этом. Хотя ещё скажу: власть надо взять – и над собой, и над ней, безгубой, пусть знает, что не она хозяин жизни, а ты. Вот так-то. Взять все в свои руки…
– Как же это взять в свои руки?
– А хотя бы вот так! Пойдем покажу.
Идем. Я теряюсь в догадках.
Открыв ворота в сарай, дед Андрейка пропускает меня вперед. Сарай пуст, лишь дальний его угол за реденькой перегородкой занят предметом неопределенной формы, укрытым брезентом.
– Только ты никому ни гу-гу.
– Ну, разумеется.
Дед Андрейка торжественно, как на сцене фокусник, чуть замедленным движением руки берется за край брезента и враз срывает его.
Перед нами – добротный дубовый крест, окрашенный в бодрый зеленый цвет. Как и положено, на нижней крестовине металлическая пластина с чьим-то уверенным почерком:
ВЕТЛУГИН АНДРЕЙ АРХИПОВИЧ
1915—19…
– Ловко, а?
– Что? – не сразу понимаю я.
– Костлявую обезоружил, осталась не у дел. Думала: придет, страху напустит, ан нет! С той поры, как памятник этот себе сделал, ни одна хворь не берет. Нет ли у тебя какого-нибудь подходящего научного объяснения этому, а?
И он засмеялся. Засмеялся совсем по-детски.
Когда я уходил, он собирался на ночное дежурство в контору вместо своего подгулявшего, вечно угрюмого зятя Василия.