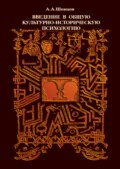Александр Шевцов (Андреев)
Психологическая игра. Основной миф
Глава 2. Ранние игры науки. Шиллер
Ранний период создания научного понятия об игре был достаточно скуден, поэтому я расскажу о нем по книге видного советского психолога Д.Эльконина «Психология игры». Эта книга вышла еще в 1978 году, но, кажется, до сих пор остается одной из самых авторитетных российских работ по теории игры. Она настолько основательна с точки зрения истории и этнографии предмета, что я, вообще, намерен во многом следовать за Элькониным, поэтому это будет одновременно рассказ и о его теории игры.
Эльконин начинает историю научного изучения игры с эстетических писем немецкого поэта и просветителя Иоганна Фридриха Шиллера (1759-1805). Собственно говоря, вся, так называемая, теория «избытка сил» Шиллера сводится к одному положению, которое я приведу целиком:
«Правда, природа одарила и неразумные существа превыше их потребностей и посеяла в темной животной жизни проблеск свободы. Когда льва не грызет голод и хищник не вызывает его на бой, тогда неиспользованная сила сама делает из себя свой объект: могучим ревом наполняет лев звонкую пустыню, и роскошная сила наслаждается бесцельным расходованием себя.
Насекомое порхает, наслаждаясь жизнью, в солнечном луче, и, конечно, в мелодичном пении птицы нам не слышатся звуки страсти. Несомненно в этих движениях мы имеем свободу, но не свободу от потребности вообще, а только от определенной, внешней потребности.
Животное работает, когда недостаток чего-либо является побудительной причиной его деятельности, и оно играет, когда избыток силы является этой причиной, когда излишек силы сам побуждает к деятельности» (Цит. по Эльконин, с. 15–6).
Собственно говоря, если вглядеться, то современные представления философов об игре не далеко ушли от Шиллера, и большая часть их понятий коренится в этом высказывании. С одним уточнением: они, пожалуй, утеряли что-то важное и заменили его на более очевидное. Очевидное – не значит соответствующее действительности. Шиллер поэт, и потому он видит тоньше, хотя передает свое видение излишне поэтично для науки.
Тем не менее, разберем это высказывание.
Итак, по порядку. Природа одарила и неразумные существа, то есть животных, сверх их потребностей. То, что сверх потребностей для поэта – проблеск свободы. Это метафора, иносказание, в которое никто не захотел вдумываться, как в слова очередной Кассандры. А если вглядеться? О чем речь? О каких потребностях и о какой свободе?
Со времен Декарта принято считать: животные – это биологические автоматы. Машина имеет запас горючего сверх того, что ей нужно непосредственно в миг работы. Ты глушишь мотор, но запас сохраняется, и он все время есть в избытке. Однако это не ведет машину к свободе.
Что за потребности обсуждает Шиллер? Безусловно, речь идет о непосредственном выживании. О чем свидетельствует и вторая строка: когда льва не грызет голод и хищник не вызывает его на бой. Образ питания хищника таков, что добыча его достаточно питательна, чтобы ему хватало надолго. Энгельс в «Роли труда в превращении обезьяны в человека» даже предполагал, что развитием человеческого разума приматы обязаны тому, что перешли с растительного рациона обезьян на мясное питание.
Когда я это читал, меня все время занимал вопрос как раз обо львах и тиграх: что же они до сих пор не развились, в таком случае, в человека?! И все же наблюдение важное: лев или волк, добыв пищу, может не есть несколько дней. Удав и гораздо дольше. Мясная пища калорийна и лучше усваивается.
Растительная пища усваивается плохо, поэтому хищники, которым все равно нужна растительная составляющая в питании, начинают поедать добычу с живота, где находится у травоядных почти переваренная растительная масса. Сами же травоядные не могут себе позволить насытиться такой пищей и потому едят постоянно. Для них вся жизнь состоит из тех самых двух частей, которые и описал Шиллер: терзания голода и нападения хищников.
Следовательно, простейшая борьба за выживание заключается в овладении двумя искусствами: утоление голода и спасение от нападающих. Соответственно, сторонники биологических теорий игры отмечают скудость игр у детенышей травоядных именно потому, что им для жизни достаточно освоить только эти два искусства. А поскольку питание осваивается инстинктивно, то и остаются только подвижные игры, в которых детеныш овладевает собственным телом для бега и боя.
В отношении хищника, как подметил Шиллер, что-то меняется. Избыток сил, который обеспечивает мясо, дает свободное время, и его можно потратить на что-то, прямо к выживанию не относящееся. Поэтому неверно высказывание Шиллера: животное работает, когда недостаток чего-либо является побудительной причиной его деятельности, и оно играет, когда избыток силы является этой причиной, когда излишек силы сам побуждает к деятельности.
Правильно было бы сказать: хищник. И точно так же самый страшный хищник планеты – человек. Если вдумаемся, то в этом случае поэтически описан некий закон. На человеческом уровне он был выражен философски: философы и философии рождаются в тех обществах, которые достаточно богаты, чтобы позволить себе содержать бездельников.
Это же самое можно перевести на другой язык через знаменитый образ левиафана, созданный Гоббсом: большое существо, Левиафан или народ, может себе позволить развитие разума лишь в тех случаях, когда его питание избыточно. Когда народ голодает, он, подобно телу, отторгающему инородное, избавляется от философов. Например, сажает их на пароход и отправляет умирать за границу.
Не буду вдаваться в то, соответствуют ли действительности предположения Шиллера о том, что насекомые и птицы тоже играют, порхая и издавая трели. Боюсь, что именно эта красота, как и красота цветов, над которыми они порхают, чрезвычайно утилитарна. Цветы – это половые органы растений, через которые они размножаются. И никакой красоты в них нет. Это человек склонен оценивать именно это явление как красивое. Красота не в цветах, а в способности человека восхищаться играми природы.
Тем не менее, в словах Шиллера есть важная мысль: несомненно в этих движениях мы имеем свободу, но не свободу от потребности вообще, а только от определенной, внешней потребности.
Мысль эта о том, что у живого существа может быть и внутренняя потребность. И внутренняя не в смысле идущей из желудка или кишечника. Внутренняя – это глубже, чем телесное вещество, и глубже, чем потребности вещества. Но для того, чтобы их даже заметить, необходимо быть сытым и в безопасности. О том, чтобы осознать и понять, речь пока даже не идет.
И что же происходит, когда сытость в покое оказываются достаточными, чтобы в теле накопился избыток сил? Неиспользованная сила сама делает из себя свой объект: могучим ревом наполняет лев звонкую пустыню, и роскошная сила наслаждается бесцельным расходованием себя.
Заметьте, поэт подметил то, что обычный человек упускает: не лев, сама Сила наслаждается расходованием себя. Даже если не Сила, то точно то, что за пределами потребностей выживания, за пределами вещества. Но поэт все равно прав. Чтобы говорить о том, что это играет Нечто, находящееся в том мире, откуда ко мне и приходит сила, нужно это Нечто хотя бы рассмотреть. А я слеп и туп!
Я вижу только то, что переполнен силой, и эта сила рвется из меня под большим напором. Я не вижу то, что ее толкает и создает внутреннее давление. Мое искусство осознавания себя слишком неразвито. Поэтому я сливаюсь с внешним – с волной силы, и позволяю ей являть себя так, как это мне уже доступно – через тело.
И вот мое тело кричит, прыгает, бегает и смеется. А нутро мое в это время заполняет радость. Именно это язык наш и называет игрой с самой далекой древности, которую смог сохранить в своей памяти.
В науке принято подход Шиллера называть «теорией избытка сил». Однако он вполне может быть назван и теорией наслаждения, доставляемого игрой или вызываемого ею, потому что последователи забыли о силе и ее избытке. Их очаровала мысль о том, что игры ведутся ради наслаждения.
Первым, кто подхватил это наблюдение Шиллера, был английский философ-эволюционист Герберт Спенсер (1820-1903). Заключительную главу своего главного труда «Основания психологии» Спенсер посвящает удовольствию и страданиям. В сущности, это могла быть одна из первых попыток естественнонаучной психологии выйти за свои собственные, вещественные рамки:
«Удовольствия и страдания суть явления, сопутствующие известным состояниям, мыслимым и общим, я чуть было не сказал «известным деятельностям»…» (Спенсер, с. 294).
К мысли увязать удовольствие именно с деятельностью Спенсер приходит вслед за Миллем: «удовольствие есть отражение произвольного и беспрепятственного упражнения силы, энергию которой мы сознаем» (там же. С. 298). Милль же исходил еще из учения Аристотеля, который считал, что удовольствие сопровождает действие здоровой способности.
Отсюда оставался один шаг до души и ее состояний, но Спенсер хотел идти в ногу со временем, воевал с Контом за право считаться создателем позитивизма, а с физиологами за место основоположника естественнонаучной теории психологии. Поэтому он сводит свою находку к биологии:
«…по отношению к остальным животным можно принять за неопровержимый закон, что каждое из них старается обыкновенно продолжать каждый акт, доставляющий ему удовольствие, и старается избегать всякого акта, который доставляет ему страдание.
Очевидно, что для животных с низким умственным уровнем, неспособных проследить все запутанные последствия известных действий, не может существовать никакого другого руководства в их деятельности» (там же. С. 302).
Никакого другого, кроме удовольствия. Наблюдение верное, до очевидности. И именно в силу этого вызывающее неопределенную настороженность. Неопределенность же или смутность сомнения, как я вижу, связана с тем, что принцип наслаждения вовсе не связан с биологией как таковой. Он просто общий и вполне распространяется и на души. Привязывать его к биологии – неоправданно сужать, придавая естествознанию надуманную занаучность.
Заглядывая в душу, мы тоже не можем обнаружить там сомнений в том, что этот принцип действует. Разница, пожалуй, только в том, что на телесном уровне он называется удовольствием, на уровне сознания – наслаждением, а на уровне души – блаженством. И в каждом из этих русских слов отражается некая иная качественная ступень в раскрытии принципа. Но сам он неизменен.
Кстати, удовольствие в русском языке означает всего лишь волю уд, то есть органов, вроде жел-удка или срамных уд, то есть половых органов. В общем, удовольствие – это свободная возможность исполнять то, что хочется, и тогда, когда хочется. Не сдерживаясь и не вынуждая себя терпеть.
Сознание же сравнивает свое желанное состояние с действием сахара, то есть сладкого. Сладкое же расширяет сознание, когда его сжимают заботы и тяготы жизни. Поэтому все, что позволяет забыться и отвлечься от этих тягот, именуется наслаждением.
Спенсер пытается разглядеть, почему мы постоянно что-то делаем, и как сама деятельность может вызывать удовольствие или наслаждение. В силу этого, разговор об игре для него служебен, это способ понять не игру, а деятельность и сопутствующие ей состояния.
«Деятельности, называемые играми, соединяются с эстетическими деятельностями одной общей им чертой, а именно тем, что ни те, ни другие не помогают сколько-нибудь прямым образом процессам, служащим для жизни» (Цит. по Эльконин, с. 16).
Под процессами, служащими для жизни, подразумевается битва за выживание. То есть, именно тот биологический уровень, присущий травоядным, когда ни свободного времени, ни свободных сил, остающихся от добывания пищи, нет.
«Низшие роды животных имеют ту общую им всем черту, что все их силы расходуются на выполнение отправлений, имеющих существенное значение для жизни. Они беспрерывно заняты отыскиванием пищи, убеганием от врагов, постройкою убежищ и заготовкою крова и пищи для своего потомства.
Но по мере того, как мы подымаемся к животным высших типов, имеющим более действенные (efficient) или успешные и более многочисленные способности, мы начинаем находить, что время и сила не поглощаются у них сполна на удовлетворение непосредственных нужд. Лучшее питание, следствие превосходства организации, доставляет здесь иногда избыток силы…
Таким образом, у более высокоразвитых животных дело стоит так, что энергия, требующаяся здесь в каком-либо случае, оказывается часто в некотором избытке над непосредственными нуждами; и что здесь оказывается часто, то в той способности, то в другой, известный неизрасходованный остаток, который дозволяет восстановлению, следующему за тратой, привести данную способность в продолжение ее отдыха в состояние высокой действенности или успешности» (там же. С. 16–17).
Вот из этого «избытка неизрасходованной энергии» и рождается игра.
«Игра есть точно такое же искусственное упражнение сил, которые вследствие недостатка для них естественного упражнения становятся столь готовыми для разряжения, что ищут себе исхода в вымышленной деятельности на место недостающих настоящих деятельностей» (там же. С. 17).
В сущности, Эльконин оставляет эти положения Спенсера без комментария, просто как историческую справку о том, как развивались научные взгляды на игру. Я же, пожалуй, скажу, что связь наслаждения с деятельностью вполне очевидна из наблюдений над жизнью и собой, но в теории Спенсера осталась совершенно недоказанной и непонятой.
Да, каждый из нас замечал, что иногда приятно поваляться как бездвижный кусок плоти. Но это удовольствие становится ярче, если перед этим хорошенько потрудился и устал. Но и кончается такой отдых тем, что что-то в тебе вдруг толкает изнутри: вставайте, граф, вас ждут великие дела!
И ты вскакиваешь и действуешь. Причем, пока для тебя не открылась еще возможность умственной деятельности, ты непроизвольно начинаешь делать то, что тебе доступно: бегать, прыгать, упражняться в том, что поможет победить других. Если же ты стал писателем, ученым или философом, ты сходу можешь броситься писать очередную статью или решать новую задачу. И это будет таким же упражнением и такой же деятельностью, вызывающей разве что не удовольствие, а наслаждение.
Наслаждение не просто ведет нас от одного полюса жизни к другому, оно еще и ведет нас вверх, ступень за ступенью. Мызыки называли это напряжение между страданием и блаженством, лучом райского возвращения. Имелось в виду то, что в раю мы жили в блаженстве, но были низвергнуты оттуда на Землю, чтобы вкусить страданий и сделать главные выборы. И вот теперь мы постоянно стремимся вернуться туда, откуда пришли, туда, где остался наш Дом.
А жизнь наша земная – бесконечная Дорога Домой и битва в Пути.
Глава 4. Ранние игры. Вундт
Эльконин считает следующим шагом в создании научной психологии игры мысли немецкого психолога Вильгельма Вундта (1832-1920), высказанные им в его «Этике». Причем, он прямо пишет: «Ближе всего к пониманию возникновения игры подошел В.Вундт» (Эльконин, с. 17). Однако уделяет Вундту всего два абзаца, которые я приведу полностью, чтобы понять и собственные взгляды Эльконина.
Очевидно, что он сравнивает его со Спенсером и не разделяет их взглядов на удовольствие, как на движущую силу, побуждающую к игре.
«Однако и он склонен считать источником игры наслаждение. Мысли, высказанные В.Вундтом, также фрагментарны.
«Игра – это дитя труда, – писал он. – Нет ни одной игры, которая не имела бы себе прототипа в одной из форм серьезного труда, всегда предшествующего ей и по времени и по самому существу. Необходимость существования вынуждает человека к труду. А в нем он постепенно научается ценить деятельность своих сил как источник наслаждения».
«Игра, – продолжает Вундт, – устраняет при этом полезную цель труда и, следовательно, делает целью этот самый приятный результат, сопровождающий труд».
В. Вундт указывает на возможность отделения способов действий от предмета труда и тех конкретных предметно-материальных условий, в которых протекает труд. Эти мысли В.Вундта имеют принципиальное значение. Если Г.Спенсер, рассматривая игру, включал и игру человека в биологический аспект, то Вундт включает ее в аспект социально-исторический» (т. ж.).
Действительно, фрагментарные мысли, и никак нельзя понять, где тут Вундт подошел к пониманию возникновения игры. А стоит.
В действительности, в «Этике» Вундт говорит об игре довольно много и отводит ей раздел в третьей главе, посвященной обычаю и нравственной жизни. Точнее, это даже подраздел в разделе, посвященном «формам отношений» в обществе, и следует он за «отношением к труду».
Иными словами, Вундт выводит игру из труда, а для этого вынужден обосновать то, что труд может быть приятным. Каким-то образом это связывается для Вундта с развитием нравственности, которая заставляет людей уважать «человеческую деятельность».
Благодаря этому уважению, «обычай достиг такого развития, что возвысил труд на степень свободной деятельности и затем перенес полезную деятельность во все сферы жизни» (Вундт. Этика. Исследование фактов и законов нравственной жизни, СПБ.: 1887, с. 180). Соответственно, «высшие формы человеческой деятельности являются уже не в форме просто приятного упражнения телесных и духовных сил» (там же. С. 181).
Вундт был прекрасным психологом, но не социологом. Поэтому я пропущу этико-социологические обоснования и перейду к психологии игры. Из этой части, тем не менее, ясно, что Вундт считал труд сродни телесным или духовным упражнениям. А они были для него разновидностью приятной деятельности. Иначе говоря, свободный и умный труд может приносить наслаждение, как и любые физические или умственные упражнения.
Вот исходное основание.
Именно из него выводится понятие об игре.
«Это приятное воздействие, которое, обращая труд в удовольствие, превращает и принуждение в прямое влечение, служит в то же время поводом к возникновению новой формы деятельности человеческих сил, а именно: игры» (т. ж.).
Вундтовская теория игры – это теория общественной игры, почему она и важна для объяснения ролевых психологических игр. Биологическую ступень игры Вундт отбрасывает, Даже, несмотря на то, что сам пишет о наслаждении от простых телесных упражнений, вроде игр животных и маленьких детей. Вполне очевидно, что такая операция искусственна и неправомерна. Поэтому Вундт непроизвольно будет время от времени обращаться к понятию «силы», как источнику наслаждения.
«Игра – это дитя труда. Нет ни одной игры, которая не имела бы себе прототипа в одной из форм серьезного труда, всегда предшествующего ей и во времени, и по самому существу. Необходимость существования вынуждает человека к труду. А в нем он постепенно научается ценить деятельность своих сил как источник наслаждения.
Таким образом, не только сам труд является предметом свободного избирания, но и то удовольствие, которое он доставляет, влечет к такому свободному повторению этого труда, при котором были бы ослаблены его трудности и опасности, а оставалось бы по возможности одно чистое наслаждение» (т. ж.).
Довольно парадоксальное утверждение, что труд приятен, вызывает сопротивление у подавляющего большинства людей. Поэтому его надо читать с уточнением: свободный труд, тот труд, когда ты сам хочешь поработать, приятен. И с этим нельзя спорить: труд бывает и в радость, даже если такое редко случается в нашей жизни.
Сам Вундт с юности трудился только одним образом: он писал книги и читал по ним лекции. Это было ему в радость, и жил он строго по тому правилу, что я уже упоминал: избери себе дело по душе и не будешь трудиться ни одного дня. Дело по душе не воспринимается трудом в том привычном, тяжелом смысле. Поэтому Вундт просто не знал, что такое труд тех людей, о которых писал. И не задавался вопросом, а как часто в их жизни случается труд, приносящий наслаждение.
А стоило бы задаться, потому что даже у тех, кто трудится тяжко, особенно во времена Вундта, есть игры. И их дети играют не потому, что смогли дойти до высоких эмпирий, в которых создали себе понятие о труде, выделили из него трудности и опасности и оставили для себя одну ту часть, что чистое наслаждение.
Дети не проделывают ни этой аналитической операции, ни обретают опыт действительного труда к тому мгновению, когда начинают играть. Они входят в труд через игру, а не в игру через труд. Похоже, вся Вундтовская теория игры перевернута с ног на голову. И это постоянно ощущается, как только начинаешь глядеть из положения ребенка, который еще не знает никакого труда:
«Игра устраняет при этом полезную цель труда и, следовательно, делает целью этот самый приятный результат, сопровождающий труд» (т. ж.).
Тем не менее, эти высказывания Вундта не совсем бессмысленны. Они просто неточно привязаны к предмету и субъекту исследования. Если бы Вундт не замахивался на общее объяснение игры, а четко выделил сферу приложения своей теории, все заработало бы. Мне кажется, ему стоило сузить эту сферу, заявив, что в рамках социологического подхода он рассматривает игры взрослых.
Тогда в разряд подобных трудовых игр попали бы и, так называемые, трудовые песни и многие народные плясы, которые проделывают с трудом именно то, что описывает Вундт: они устраняют тяжесть труда и его опасности и используют трудовые движения и звуки в качестве танцевальных па.
Множество плясок народов земли в действительности под пение отыгрывают ту деятельность, которая вбита за целый день прямо в мышцы. В них веют, жнут, снуют. Наверное, самым ярким примером является матросское «Яблочко», во время исполнения которого матросы делают то, к чему привыкли, вплоть до гребли и лазания по канатам.
Вот с такими уточнениями Вундтовская социальная теория игры обретает право на внимание и должна быть рассмотрена более тщательно, чем это сделал Эльконин. В определенном смысле, Вундт проделал далее академический труд по типологическому описанию человеческих игр. Без него картина игры будет неполноценной.