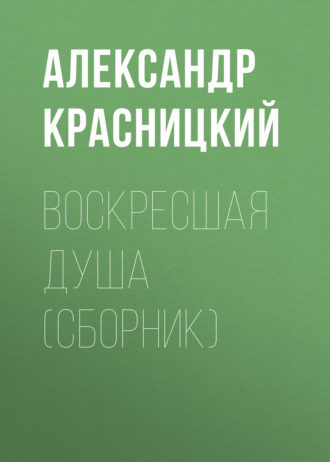
Александр Красницкий
Воскресшая душа (сборник)
X
В паутине
Здоровье графа Нейгофа быстро поправлялось. Его молодой организм одолел недуг.
– Совсем вы молодцом становитесь, ваше сиятельство! – подшучивал над ним Анфим Гаврилович. – Вас теперь и не узнаешь… Ой-ой! Подозреваю я, что тут не наша латинская кухня виновата… Тут что-то более могущественное, чем вся ее стряпня, подействовало.
Граф смущался. Он и сам чувствовал, как возвращалась к нему сила, крепчал его организм.
Однако хотя тело выздоравливало, душа страдала. Произошел перелом, столь мощный, что в нем исчезал, бесследно поглощался им весь последний одиннадцатилетний период его жизни. Как прежде глубоко похоронен был в Миньке Гусаре граф Нейгоф, так теперь Минька Гусар растворился в воскресшем вновь для жизни графе Нейгофе.
И все это свершило внезапно вспыхнувшее чувство.
«Что со мной?» – спрашивал иногда сам себя Михаил Андреевич, и какой-то голос, исходивший из сокровеннейших тайников его души, отвечал ему: «Ты любишь!»
Так проходили дни.
Софья появлялась у выздоравливающего Нейгофа в каждый приемный день.
– Поднимайтесь, выздоравливайте скорее, граф! – сказала она однажды Нейгофу.
– Зачем? Я желал бы умереть, – ответил он.
– Умереть? Странное желание! Зачем вам понадобилась смерть?
– Тогда со мной навсегда осталась бы чудная греза, в которой я живу.
– О чем же вы грезите?
– О чем? А разве вы, пришедшая навестить меня, Миньку Гусара с кобрановских огородов, вы, чистая, светлая, радостная, разве это не греза? Разве я смел в последние одиннадцать лет своей жизни мечтать о чем-либо подобном? Никогда, слышите, Софья Карловна, никогда ничего подобного не рисовало мне мое воображение даже тогда, когда оно было раздражено… Я пал так низко, что всякое человеческое участие казалось мне несбыточной мечтой.
– Не будем говорить об этом, – кротко остановила его Софья.
– Как не будем?! – горячо воскликнул граф. – Да разве можно не говорить о том, что теперь составляет сущность моей жизни? Я сам ни за что не поверил бы, если бы кто-нибудь сказал, что для меня возможен возврат к прошлому. И вот это свершается, это свершилось, и виновница этого – вы!
– Я? – как будто удивилась Софья.
– Да, вы! Ваша ласка, ваше участие воскрешают меня. Я со страхом думаю о будущем, тогда как еще недавно для меня не существовало настоящего: ведь я уничтожал и свое настоящее, как уничтожил прошлое и будущее. Теперь они воскресли вместе со мной, и этим я обязан вам.
Софья терпеливо слушала Нейгофа, давая ему возможность высказаться, и, когда он умолк, сказала:
– Знаете, что я вам скажу обо всем этом? Я – простушка и не привыкла скрытничать. Мне кажется, я понимаю вас.
– Что вы хотите этим сказать? – удивился Нейгоф.
– Видите ли, я знаю кое-что из вашего прошлого, да и вы сами его не скрывали: вы только что называли себя Минькой Гусаром с каких-то кобрановских огородов… Так?
– Да, – прошептал граф.
– Итак, вы – с кобрановских огородов, а я? Я даже не знаю, откуда я… прямо с улицы… Вы несчастны, несчастна была и я… Мы соединены несчастьем, и я понимаю, как дорого вам всякое внешнее участие. Мне уже пришлось испытать это, когда покойный Евгений Николаевич подал мне руку помощи, вырвал меня из грязи… Вот поэтому-то я пожалела вас. Поверьте, я никогда не разделяла планов Козодоева, и мне казались отвратительными его расчеты на вас, это казалось мне постыдной куплей продажей. Я уже говорила, что возненавидела вас; но жалость к вам, как к такому же несчастному существу, каким была и я, пересилила ненависть. Вы были несчастны, жалки, больны; я тоже несчастна, тоже жалка, потому что после смерти своего приемного отца я осталась одинокой, беспомощной. Но я была все-таки здорова, и потому – выше вас. Мне показалось, что мой долг прийти к вам и утешить вас… Я пришла и прихожу… и… и еще приду…
Голос Софьи при этих словах зазвучал таким страданием, что Нейгоф с краскою на лице схватил ее руку.
– Что с вами?! – воскликнул он.
– Ничего… так… Это пройдет… Детство вспомнилось… Эта проклятая улица… Никому не нужная, всеми брошенная девчонка, голодная, беззащитная… Знаете ли, граф Михаил Андреевич, – с чувством воскликнула Софья, – знаете ли вы, что мне в то страшное время не раз приходилось, чтобы утолить голод, отнимать у таких же, как я, никому не нужных существ – уличных собак – добытые ими корки хлеба?!
– Бедная, несчастная! – вырвалось у графа.
– Да, да… потому-то я и понимаю несчастье другого… Что вам, милая? – вдруг заметила Софья подходившую к ней с конвертом в руках сиделку.
– Вам, барышня, приказано передать, – подала та конверт.
Софья вскрыла его, и лицо ее изменилось при одном взгляде на содержание записки.
– Простите, граф, я должна уйти, – поспешно поднялась она с табурета.
– Уже! Так скоро? – с грустью проговорил Нейгоф.
– За мной прислали… прощайте, я еще приду, и мы докончим наш разговор…
Она торопливо направилась к выходу. Нейгоф, никогда не видевший ее такой взволнованной, даже испуганной, тревожным взглядом следил за нею.
В дверях она встретилась с незнакомым Нейгофу человеком. Это был Кобылкин. Граф видел, как Софья отшатнулась при этой встрече, видел, что входивший старик, улыбаясь, поклонился красавице. И вдруг неприятное чувство к этому совершенно незнакомому ему человеку овладело графом.
«Кто это? – подумал он. – И как похож на того… Козодоева…»
Мефодий Кириллович, пропустив Софью, задержался на пороге. Он даже голову приподнял и наморщил нос, будто обнюхивая палату, а потом направился прямо к койке Нейгофа и, остановившись около него, громко произнес:
– Мое почтение, ваше сиятельство!
– Здравствуйте! Но я вас не знаю! – удивился Нейгоф.
– Будто бы? А впрочем, все может быть… Тогда позвольте представиться. Кобылкин я. Что-с? Вам решительно ничего не говорит эта неблагозвучная фамилия?
Нейгоф много раз во время своего босячества слыхал это страшное для всех стоявших «вне закона» имя, но сталкиваться им никогда не приходилось.
– Да, понаслышке я знаю вас, – смущенно пробормотал он. – Что же вам от меня угодно?
– Если хотите – ничего, а то и очень многое-с. Но прежде всего я пришел справиться о состоянии вашего здоровья. С удовольствием вижу, что вы изволите поправляться.
– А почему это вас интересует?
– Много к тому поводов есть, а наипервейший тот, что я вас с кобрановских огородов вот в это телу полезное учреждение направил.
– Очень вам благодарен, – холодно произнес Нейгоф, – но все-таки не вижу причин…
– К знакомству со мной? Напрасно!.. Еще баснописец сказал: «Хорошие знакомства в прибыль нам». Да вы, ваше сиятельство, совсем молодцом стали! Красавец красавцем! Радуется душа моя о вас. Неужели отсюда опять на кобрановские огороды? Это было бы обидно… Поддержитесь, ваше сиятельство!.. Ну что хорошего на огородах? Не отрицаю, жизнь и в той среде имеет свою прелесть, но побаловались, и довольно…
– Помилуйте, да вам-то что за дело до меня?
– Есть дело, ваше сиятельство, есть! Я уже имел честь докладывать вам…
– Так говорите скорее, в чем оно… Извините, я прилягу.
– Пожалуйста, не стесняйтесь! С больного какой же спрос? А ведь Козодоев-то умер! – вдруг выпалил он и впился глазами в Нейгофа.
– Да, я знаю об этом, – совершенно равнодушно ответил граф. – Что же из того?
– Ничего… Я это к тому, что покойный, кажется, вашим хорошим знакомым был.
– Я видел этого человека лишь один раз в жизни, – произнес граф.
– Вот как? А я-то совсем другое думал. Умер он, умер!.. Так, может быть, вы знаете, как он умер?
– Я знаю только, что этого малоизвестного мне человека нет более на свете, – резко проговорил Нейгоф, – а как он умер и от чего – это меня совершенно не интересует.
Кобылкин глядел на него с удивлением.
– Однако, если не ошибаюсь, приемная-то дочка его, эта госпожа Шульц, навещает вас здесь?
– Да, навещает.
– И она ничего не говорила вам о смерти своего приемного батюшки?
– Она сказала только, что он умер и она теперь одинока.
– И больше ничего? – Мефодий Кириллович тихо свистнул. – Те-те-те-те! Вот оно дело-то какое! Та-ак! А вы, граф, видели паука? Да, конечно, видели. А видели, как он плетет свою паутину? Плетет он ее, а как сплетет, так в серединочку и засядет, и ждет, когда глупая муха пролетит и в его паутине запутается. Тут он на нее разом насядет, и давай наслаждаться… высасывать из мухи всю ее внутреннюю сущность. Высосет и бросит.
– К чему все это? – нетерпеливо сказал Нейгоф.
– А так, ни к чему… Бывает, что паук, помоложе да пошустрее, сам не работает, сетей не плетет, а просто выгоняет из паутины другого… Да и мало ли что еще на свете бывает… Однако вы дремлете… Не смею мешать… Спасибо вам большое…
– За что? – удивился Нейгоф.
– За просветление. Насчет многого вы меня просветили… на путь истинный, так сказать, направили. Прощения прошу за беспокойство. Имею честь кланяться. – Кобылкин почти насильно пожал руку Нейгофу и петушком побежал по проходу между койками. Отбежав несколько шагов, он возвратился и, наклоняясь к графу, шепнул: – А про паучка моего не забывайте… Знание этой – ну, как ее? – инсектологии, что ли, часто для нас, людей, не бесполезно… А за всем тем до свиданья.
Он ушел.
– Надоедливый старик! – чуть не крикнул ему вдогонку Нейгоф. – Что ему было нужно от меня?.. А Софья, Софья! Милая, несравненная, – шептал он, – такая же несчастная и отверженная, как и я… Только бы мне выздороветь!.. Уж я знаю, что мне делать…
XI
В чаду любви
С этого дня выздоровление графа быстро пошло вперед. Нейгоф чувствовал это и радовался.
«Скоро я снова буду на свободе! – мечтал он. – О, как хочу я теперь жить, как манит меня жизнь!.. Как хороша она!»
– Граф, да чего вы так рветесь на волю? – спрашивал его Барановский. – Полежали бы у нас подольше.
– Как чего? – вспыхивал Нейгоф. – Разве там, на воле, плохо? А у вас – та же тюрьма.
– Уж и тюрьма! Нет, граф, больница – не тюрьма!.. Поглядите на себя, что она с вами сделала, какой вы пришли и каким уйдете.
– Я понимаю, что вы хотите сказать… Да, пожалуй, вы правы, – с горечью в голосе сказал Нейгоф. – Чем я был в эти одиннадцать лет? Когда я оглядываюсь назад, на это свое прошлое, меня охватывает ужас. Одиннадцать лет жил на дне! Брр…
– Я боюсь, как бы вы опять не опустились на него.
– Никогда! Доктор, голубчик, если бы вы только могли заглянуть мне в душу, вы увидели бы, что я действительно стал совсем другим!
– Да, перемена в вас очень заметна. Только тут, думается мне, наша больница совершенно ни при чем… Тут виновник кто-то другой.
– Что вы хотите этим сказать? – смутился Нейгоф.
– Ну-ну, – ласково потрепал его по плечу Барановский. – Не буду, не буду. Ведь я, кажется, в самую деликатную жилку попал? Простите тогда. А все таки это хорошо, я искренне рад за вас! Тело ваше воскресло с нашей помощью, дух же воскрес с помощью чего-то другого, более нежного, более возвышенного. Теперь вам остается, воскреснув, не умирать снова… Но что это? Вы плачете?
Глаза Нейгофа действительно наполнились слезами.
– Да, я плачу! – воскликнул он. – Плачу и нисколько не стыжусь своих слез! Скажите, зачем вы, чужие люди, так добры ко мне?
– Да зачем нам быть к вам злыми?
– Не то… Ведь, знаете ли, семья меня отвергла… От меня отказались из-за сущих пустяков кровные родные; чтобы отомстить им, я стал бродягой, отребьем человеческим.
– Фу, какая глупость эта ваша месть! Видно, вы были тогда очень молоды.
– Мне было тогда двадцать пять лет. Но не в том дело, пусть это было глупо, пусть так. Дело в том, что никто из тех, кого называли когда-то моими родными, пальцем не шевельнул, чтобы заставить меня вынырнуть на поверхность. А между тем вот совсем чужие, как вы, и…
Он оборвал фразу и смолк.
– И эта молодая особа, которая навещает вас здесь? – сказал Барановский.
– Да, и она… Она – чужая мне… А между тем, если я не вернусь туда, где был доселе, этим я обязан ей.
– И дай вам Бог всего хорошего! – с чувством произнес доктор. – Я до сих пор не верил в подобного рода лекарства, а теперь вижу воочию, что любовь – радикальное средство для тяжелейших болезней духа.
За все время разговора слово «любовь» было упомянуто впервые.
– Доктор! – страстно заговорил Нейгоф. – Вы добры ко мне… вы поймете меня… Я, право, не знаю, что со мной… Последнее время я живу как в тумане. Он все застилает, и сквозь него я вижу ее, только ее одну… Вы говорите, это – любовь? Не знаю. Прежде со мной ничего подобного не было. Я не жил, а теперь чувствую, что живу, хочу жить… жить не так, как я жил раньше, а как живут другие… Если это – любовь, да будет она благословенна вовеки! Но я не верю ни настоящему, ни будущему… Мне все это кажется сном, не может быть того, что есть…
– А чего именно?
– Вы знаете, она зовет меня… меня! Вот читайте!.. – и Нейгоф, вынув из-под подушки изящный маленький конверт, подал его доктору: – Читайте!
Барановский открыл конверт и вынул из него надушенную записку. Она была от Софьи.
В ней ничего такого, что могло бы говорить о каком-то нежном чувстве, не было. Софья просто уведомляла Нейгофа, что по некоторым обстоятельствам она больше навещать его в больнице не может, а просит его, когда он выйдет, сразу навестить ее. Далее следовала приписка. Красавица просила графа никогда ни с кем не говорить о ней, и в особенности хранить в секрете получение этого письма.
– Что же вы тут находите особенного? – сказал Барановский, возвращая письмо. – Все естественно. А вот вы неделикатны. Вас просят хранить секрет, а вы выдаете его первому встречному.
– Как первому встречному? Кому?
– Да вот хотя бы мне.
– Доктор, грех вам! Какой же вы первый встречный? Разве я не обязан вам жизнью?
– Ничем не обязаны! Что же вы намерены делать? Конечно, пойдете?
– Пойду! Не могу не пойти. Если бы меня цепями приковали вот к этим стенам, я и-то пошел бы!
– Ого, как вы! Смотрите, не только с цепями, а даже и с чем-либо более легким поосторожнее. Помните, ваше сердце далеко не в порядке, а сердце – такая нежная штучка, что неделикатного обращения не выносит. Случись что – и замрет, тут вам и капут! Берегитесь! Сильного нервного волнения ваше сердце не вынесет… вот и теперь… ишь, ведь как разволновался! Ну-ка, дайте пульс… – Лицо Барановского стало серьезным. – Так, так, – прощупал он пульсацию. – Теперь давайте сердце послушаю. Ничего опасного, а только я выпишу вам успокоительное и уйду. Так нельзя! Ложитесь и постарайтесь заснуть. Ну, до свиданья! Я ухожу!
Нейгоф попытался заснуть, но не мог. Воображение рисовало ему дивный мираж и делало его счастливым… Мечты и грезы, одна другой краше, овладели им.
«Чем я был и чем стал! – думал он. – Да, мое прошлое – тяжелый сон, будущее тоже сон, но сон восхитительный… Она зовет меня… она! Да разве же это – не сон?»
Он вынул письмо Софьи и осыпал поцелуями дорогие строки.
Наконец Барановский нашел возможным выписать Нейгофа из больницы.
Граф, узнав это от доктора, поспешил написать об этом Софье и просил разрешения навестить ее, чтобы выразить свою благодарность за ее участие.
В ответ на свое письмо он получил короткую записку:
«Приходите, буду очень ждать. С.».
В день выписки графа вызвали в контору, и там оказалось, что чья-то неведомая рука приготовила ему необходимую одежду: приличное платье, теплое пальто. В одном из карманов Нейгоф нашел кошелек с достаточной для первого времени суммой.
Слезы благодарности выступили у него на глазах. Он понял, что это Барановский, сам живший на одно жалованье, позаботился о нем. И он не мог поблагодарить его! На все расспросы о Барановском ему отвечали, что «дикий доктор», поручив своих больных коллеге, ушел рано утром из больницы.
Зато, как только Нейгоф с удовольствием переоделся из больничного халата в переданное ему платье, перед ним появился Кобылкин.
– Честь имею поздравить, ваше сиятельство, с благополучным выздоровлением, – раскланялся он, – рад, бесконечно рад.
– Да вам-то что до этого? – сухо спросил его граф.
– То есть как это что? По-человечески рад. Приветствую! Счастья желаю! Уж вы, конечно, ваше сиятельство, на кобрановские огороды не вернетесь?
– Нет, не вернусь!
– И я думаю, что не вернетесь. Помилуйте, зачем же теперь кобрановские огороды? Фи! Грязь, склизь и босяки… – то ли дело маленькое, уютное гнездышко!.. И тепло в нем, и светло… А тут еще нежная голубка, с нетерпением ожидающая своего сизокрылого голубя… Какие уже тут огороды? Ну их!
– Послушайте, – разозлился Нейгоф, – что вам от меня надо?
– Вы сердитесь, ваше сиятельство, но как идет к вам этот гнев! А мне от вас ничего не надобно, как есть ничего! Это прежде, когда я, так сказать, на действительной службе состоял, вы мне ох как понадобились бы, а теперь – был конь, да уездился… Посему не желаю вас гневить и спешу избавить от своего присутствия. Честь имею кланяться… Еще раз свидетельствую, что рад вашему выздоровлению, хотя вы как будто другой, более опасной, хворью заболели. Да это ничего, скоро пройдет! Только не позабудьте, ваше сиятельство, присказки моей о паучке и паутинке. Не забывайте, что иной раз в жизни паучком-то и нежная голубка быть может… да еще каким паучищем-то! До свиданья! Заметьте, я не говорю «прощайте»…
Кобылкин еще раз поклонился Нейгофу и петушком отбежал от него.
XII
Кошки и мышки
Нейгоф уходил из больницы с испорченным настроением.
«Почему я не осадил этого нахала? – думал он, выходя за ворота. – Что ему нужно?.. Какими-то загадками говорит!»
Однако это чувство изгладилось, как только граф оказался на улице. Городская жизнь сразу же захватила его. Людские волны струились вокруг неудержимым потоком. Шум, говор, стук экипажей, звонки конок сразу же оглушили графа, закружили его слабую голову.
«Всего, всего этого я был лишен столько лет!.. – с горечью думал он. – Зачем? Что я доказал? Ничего! А ведь думал напугать, устрашить, мечтал, что придут ко мне, будут умолять возвратиться. Никто не пришел! А мне понадобилась чуть ли не могила, чтобы снова стать похожим на человека».
Граф взял извозчика, приказал ехать по тому адресу, который был указан в письме Софьи, и через несколько минут уже был у квартиры Шульц.
После похорон Козодоева Софья переехала на другую квартиру, даже на другой край города, так что ничто не могло напомнить Нейгофу об обстоятельствах, при которых они впервые встретились.
– Софья Карловна дома? – спросил он у отворившей ему на звонок горничной.
– Пожалуйте, – с улыбкой ответила горничная, – барышня ожидают.
– Софья Карловна одна? – с тревогой спросил Нейгоф, опасавшийся, что кто-нибудь посторонний помешает ему высказать-то, что он надумал, лежа на больничной койке.
– В настоящее время одна, – последовал ответ, – да и в другое время у них никто не бывает.
– Граф, граф! – раздался из прихожей голос Софьи. – Ведь это – вы? Входите же!
Точно что-то бросило вперед Нейгофа. Он услышал ее голос, он сейчас увидит ее!
– Входите! – еще раз позвала Софья, издали протягивая Михаилу Андреевичу обе руки. – Какой вы добрый, не забыли!
– Я? Забыл вас! Это невозможно! – возразил Нейгоф и припал с поцелуем к руке красавицы.
Они прошли в уютную гостиную, скромно, но со вкусом обставленную.
– Садитесь, – предложила Софья. – Дайте мне поглядеть на вас. Батюшки, да вас узнать нельзя!
– Переменился? – улыбнулся Нейгоф.
– Просто до неузнаваемости!
– Да, Софья Карловна, да! – проговорил Михаил Андреевич, присаживаясь в кресло у преддиванного столика. – Я действительно переменился, и переменился к лучшему… к безмерно лучшему… Я сам вижу, какая пропасть легла между тем, чем я был до свидания с вами, и тем, чем я стал теперь, благодаря вам!
– Граф! – остановила его Софья. – Ведь мы же условились не вспоминать этого.
– Я не могу молчать… мне сердце подсказывает слова…
– Оставим это. Вы поправились, покинули больницу. Не будет с моей стороны нескромностью, если я спрошу, что вы теперь намерены делать?
– Не знаю, – сознался граф.
– Как же это так не знаете? Право, я не могу поверить. Неужели вы вернетесь в ту среду, откуда вас только что вырвала судьба?
Граф грустно поглядел на Софью и с горькой улыбкой произнес:
– Может быть! Все зависит…
– От чего? – быстро спросила Софья.
– От того, какой оборот примет дело, которое я задумал в дни своего выздоровления.
– Какое же это дело? – Софья даже наклонилась к Нейгофу, с нетерпением ожидая его ответа. – Вероятно, какая-нибудь новая фантазия? Полно, Михаил Андреевич, бросьте свои замыслы!..
– Нет, Софья Карловна, нет! – то, что я задумал, действительно – фантазия, несбыточные грезы, красивые мечты… Но я вот уже столько времени сплю наяву, Софья Карловна! И хочу, чтобы этот сон длился без конца, всю мою жизнь, или оборвался, и чтобы страшная действительность вновь поглотила меня… поглотила на этот раз без возврата…
– Вот вы какой?! – протяжно произнесла Софья. – Но что же нужно, чтобы этот ваш сон продолжался?
– Многое нужно! – ответил граф.
Глаза Софьи загорелись. Ее красивое лицо на миг приняло хищническое выражение, но тут же она стала прежней и спокойно спросила:
– Что?
– Софья Карловна! – воскликнул Нейгоф. – Я…
Резкий звонок в передней заставил его смолкнуть.
– Кто это там? – вздрогнула Софья. – Я приказала никого не принимать… Настя!
– Барышня, – вбежала горничная, – там вот их, кажется, – указала она на Нейгофа, – спрашивают. Старик какой-то… строгий такой!
– Какой старик? – поднялась с дивана Софья. – Кто?
– А это я! – появилась в гостиной округлая фигура Кобылкина. – Я! Имею честь кланяться! Простите, мадемуазель Шульц, что я так неделикатно! Ничего не поделаешь: экстренно нужно… Ба, ваше сиятельство! Я так и знал, что вы меня обгоните. Вероятно, на лихаче изволили примчаться?
– Как вы смели ворваться сюда! – воскликнула Софья. – Кто вы такой?!
– Я-то? Да ведь кто я – это вам, мадемуазель Шульц, хорошо известно… да и его сиятельство тоже меня знает, так что всякие представления и тому подобное считаю излишними церемониями.
– Граф, да защитите же меня! Вы видите! – кинулась к Нейгофу Софья.
Граф и без ее просьбы со сверкающими глазами и сжатыми кулаками подходил к Мефодию Кирилловичу.
– Если вы не уйдете сами, – хриплым от негодования голосом крикнул он, – я вышвырну вас за дверь!
– Это меня-то? Совсем, ваше сиятельство, этого не нужно. Пожалейте вы мои старые кости… Вышвырнете – их после и не соберешь.
– Вон! – с еще большим гневом крикнул граф.
– Уйду-с… уйду-с… Сам знаю, что незваный гость хуже татарина… Только я, собственно говоря, не к этой прелестной дамочке явился, – кивнул Кобылкин на Софью, – а к вам… Вопросец один не успел я вам предложить, когда в больнице встретились… Больно уж вы там величественны были!
– Что за вопрос? Или вы не понимаете всего неприличия своего поведения?.. Имеете вопрос ко мне и врываетесь в чужую квартиру!..
– Неприлично-с это, что и говорить! Да где же бы иначе я вас застал? Определенного места жительства вы пока не имеете, а что здесь я вас найду, это я прекрасно знал… Так вот, ваше сиятельство, будьте милостивы, ответьте мне, и я оставлю вас в покое.
– Софья Карловна, – обратился Нейгоф к хозяйке, – вы позволите? Мой ответ, кажется, единственный способ отделаться от этого господина.
– Верно изволили сказать. Вот и мадемуазель Шульц так же думает: головочкой кивнула, стало быть, вам, ваше сиятельство, можно мне ответить. Скажите, не были ли вы в гостях у Евгения Николаевича Козодоева вечером, перед тем как вас отправили в больницу? Мадемуазель Шульц, что это с вами?
Софья вскрикнула, как только Кобылкин задал свой вопрос.
Граф бросился к ней, но Кобылкин удержал его.
– С этой успеется, – властным голосом сказал он. – Были или не были?
– Прочь! – отмахнулся Нейгоф.
– Был или не был? – совсем грозно наступил на него Кобылкин.
– Был! Пустите!
– И водочку пили, и разговоры по душам разговаривали?
– Да, да! Пустите же, иначе я ни за что не ручаюсь! – Нейгоф, наконец, вырвался от Кобылкина и бросился к Софье. – Дорогая, успокойтесь! – растерянно произнес он. – Вы все еще здесь? – обернулся он в сторону стоявшего у дверей Кобылкина.
– Исчезаю-с! В момент исчезаю-с! Совет да любовь! Имею честь кланяться, желаю провести время с пользой и, главное, не забывать моей сказочки! – и Мефодий Кириллович вышел, оставив графа около плачущей Софьи.







