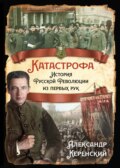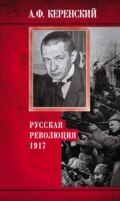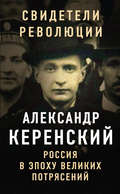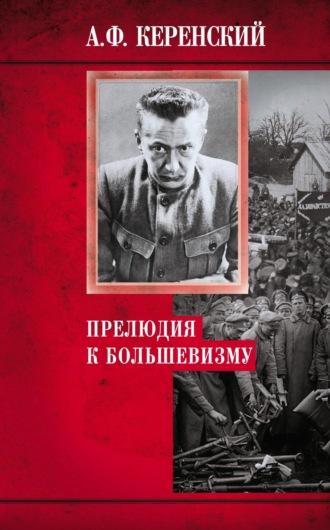
Александр Керенский
Прелюдия к большевизму
Председатель. А не было ли намеков, возможно, политических соображений определенного рода, указывающих на реакционные тенденции генерала Брусилова или даже контрреволюционные стремления? Или никаких таких данных не было, ничего, кроме нерешительности и колебаний?
Керенский. Я еще раньше замечал, что до переворота в Ставке плана не было', не было стабильности; казалось, никто не предчувствует грядущие события, что все идет своим чередом. Например, я помню, озабоченность Брусилова, когда наступление не стало развиваться так быстро, как ожидалось. Я видел, что он совершенно не способен распутать ситуацию на всех фронтах, взятых как единое целое. Однако не было никаких данных о том, что Брусилов был контрреволюционер. Просто я считал невозможным для него оставаться во главе армии из-за недостатка у него определенной ориентации. На этом совещании он не высказал ни одного собственного аргумента в противовес тем, что были выражены командирами [пассивно подчинился общей тенденции].
Все это создавало такую ситуацию, что, если бы Брусилов остался, мы могли бы столкнуться с надвигающимися событиями в полной неизвестности относительно того, что нам предпринимать дальше. Мы не могли бы сказать, что бы случилось с армией, какой курс нам нужно было бы принять завтра, стоит ли нам одновременно продвигаться во всех направлениях и т. д.
[План наступления в июле 1917 года состоял из серии атак, которые следовало провести на позиции врага на всех фронтах поочередно, таким образом не давая ему сконцентрировать силы на месте атак. Успех общего наступления зависел от его быстрого развития, но в реальности все расчеты были опровергнуты с самого начала. Связь между операциями на разных фронтах оказалась затруднена, и вследствие этого наступление было сорвано. Как только состояние вещей стало очевидным, я посоветовал генералу Брусилову перед 6 июля остановить общее наступление. Но я не встретил никакой поддержки. Отдельные наступления продолжались на разных фронтах, но в них уже не было ни духа, ни смысла. Ничего не оставалось, кроме инерции движения, которая приводила к дальнейшему усугублению краха и разложению армии. Я помню, что телеграмма Корнилова от 11 июля, указывающая на необходимость «немедленно прекратить наступление на всех фронтах», сыграла важную роль в его назначении на пост Верховного главнокомандующего.]
Параграф 2
Председатель. Не состоялась ли данная беседа о совещании между Савинковым и Филоненко в железнодорожном вагоне, что объясняет наш предыдущий вопрос?
Керенский. Я не знаю, о какой беседе вы говорите. Бесед было несколько.
Председатель. Насчет замены Брусилова Корниловым.
Керенский. Я хотел бы сказать, что Савинкова следует отличать от Филоненко. Насколько я помню, на этом совещании меня сопровождал Савинков.
…О нет, он прибыл с Юго-Западного фронта [хотя это я его вызвал]. В то время он был комиссаром. Сначала я даже не знал, что Филоненко находится в Ставке. Я был знаком с деятельностью Савинкова на Юго-Западном фронте; я говорил с ним, в то время как лично с Филоненко я был едва знаком. Я в первый раз встретился с ним в Ставке. После совещания 16 июля в железнодорожном вагоне и в самом деле проводились беседы. Я не помню, присутствовал ли на них Филоненко, но не думаю, что он мог выступать так же, как Савинков.
Председатель. Вероятно, в связи с этим совещанием проходили переговоры о переменах в правительстве. Кого предлагали сделать членами кабинета министров и какие предполагались перемены?
Керенский. Я не помню всего, что происходило в поезде. Я тогда уже был премьер-министром… И я не помню, был ли в то время кризис преодолен или нет. Кажется, все это происходило до того, как был реформирован кабинет. Не могу сказать, не помню. Если кабинет был неполным, тогда переговоры имели место. Этот кризис длился долго, думаю, целый месяц, и закончился моей отставкой. Это был единственный способ заставить общественное мнение прийти к какому-то решению. И вообще, должен сказать в отношении ваших ссылок на разные переговоры, в которых я принимал участие, – дело в том, что они беспрепятственно проводились и без меня. Я никогда никому, даже младшему лейтенанту (не говоря уже о комиссаре), не препятствовал выражать свое мнение, давать советы и т. д. Однако такие переговоры редко влияют на последующие события.
[При правильно проводимом расследовании подобные вопросы относительно бесед в железнодорожном вагоне казались мне ненужными и неуместными. Но сейчас, познакомившись на досуге с разными заявлениями о деле Корнилова, я понимаю, с какой целью была сделана попытка извлечь пользу из таких переговоров и чем была вызвана необходимость более полно обсудить это дело.
Теперь я понимаю, что следственная комиссия пыталась прояснить вопрос о «безответственных влияниях» на премьер-министра. Вот некоторые из этих заявлений, затрагивающих этот вопрос и сделанных в связи с делом Корнилова, с которыми я ознакомился. Генерал Корнилов говорит, что он «открыто» заявил Савинкову, что считает «Керенского человеком слабохарактерным, на которого легко влияют другие». Савинков показывает: «По дороге я узнал от А.Ф. Керенского, что он вызвал меня с Юго-Западного фронта, имея в виду формирование нового кабинета, основанного на принципах сильной революционной власти… Между тем, после нашего прибытия в Петербург, комбинации Керенского не было суждено осуществиться. Проблема сильной революционной власти осталась нерешенной, однако генерал Корнилов был назначен Верховным главнокомандующим, Филоненко – главным комиссаром, а я заместителем военного министра». «В некотором роде, – говорит Филоненко, – мы привлекли внимание премьер-министра к настоятельной необходимости создания сильной власти, и нас энергично поддерживал М.И. Терещенко. Частично обсуждался вопрос о формировании внутреннего «военного кабинета» из членов правительства… Эту идею, получившую полное одобрение А.Ф. Керенского, также горячо поддержал Терещенко…» И наконец, в дополнительном заявлении Савинкова был особый пункт 4 «О безответственных советчиках», в котором говорилось следующее: «Я убедился, что и Н.В. Некрасов, и М.И. Терещенко с ведома Керенского вмешиваются в дела военного департамента». Однако и Некрасов, и Терещенко являются совершенно законными членами Временного правительства и в качестве таковых имеют полное право «вмешиваться» даже без моего «ведома» во все дела любого департамента. И они не только обладали этим правом – это был их долг так поступать, ибо члены Временного правительства несут общую ответственность за действия каждого. Кроме того, В.Н. Некрасов тогда был моим заместителем, а М.И. Терещенко являлся министром иностранных дел. Обоих близко затрагивали военные проблемы. Я советовался с ними по вопросам военной политики чаще, чем с другими министрами. Только человек, весьма не искушенный в государственных делах, может в данном случае говорить о «безответственных влияниях». «Кроме этого, – продолжает Савинков, – я убедился, что A. Ф. Керенский получает советы по государственным делам от людей, не относящихся к Временному правительству. Так, полковник Барановский и командир флагманского корабля Муравьев, а также, насколько я помню, Гоц и Сенсинов давали ему советы относительно формирования нового кабинета, в то время как господа Балавинский и Вырубов обсуждали «ультиматум» B. Н. Львова».
Балавинский и Вырубов, как мы увидим позднее, сослужили мне весьма важную службу вечером 26 августа, и ничего более. Я также затем остановлюсь на обстоятельствах, при которых полковник Барановский и капитан флагманского корабля Муравьев выражали свои взгляды. Относительно намеков на влияние на меня Гоца и Сенсинова я могу значительно расширить список «безответственных советчиков», добавив в него представителей других политических партий (c.-д., эсеров, кадетов и других)[6], с которыми я в обязательном порядке консультировался всякий раз при реформировании правительства. Я не считаю возможным сформировать серьезный кабинет, не изучив пожелания и тенденции политических партий, призванных поддерживать правительство.
Однако когда встает вопрос не о политическом соглашении для формирования коалиционного правительства, а лишь об одной из административных мер, тогда наиболее влиятельные «безответственные советчики» остаются бессильными, даже «Гоц и Сенсинов». Например, оба они решительно протестовали от имени с.-д. партии против назначения Б.В. Савинкова заместителем военного министра, и все же он был назначен, несмотря на их возражения.
«Более того, – продолжает Савинков свои разоблачения, – полковник Барановский часто выражал свои взгляды о назначении и отставке людей, относящихся к высшему командованию». Однако полковник Барановский был главой моего военного кабинета, и его обязанность состояла в том, чтобы давать мне правильную информацию и делать выводы по военным вопросам, встававшим передо мной. Более того, одно только его мнение о штате военного департамента помогало мне более тщательно изучать каждое дело. Савинков даже внес моего восемнадцатилетнего адъютанта в список «безответственных советчиков». Что ж, в данном случае он нанес мне удар, и я не в силах отвести это обвинение.
Я намеренно задержался на этих частностях, чтобы привести пример того, как пишется история и создаются легенды. События 3–5 июля в Петрограде, прорыв фронта, правительственный кризис, сложности с разными народностями (инородцами), экономические трудности, продовольственный кризис – все это создавало проблемы, которые численно сократившемуся правительству (его только что покинули кадеты) приходилось решать сразу и одновременно.
Лично на мне лежала задача справляться со всеми этими делами: почти двадцать четыре часа, растягивая их, я должен был делить свое время между высшим государственным руководством, внутренней политикой, докладами из Министерства войны и флота, а также продолжительными поездками на фронт или в Ставку. В такое время железнодорожный вагон означал отдых – передышку, когда человек мог перестать быть премьер-министром, а просто спокойно сидеть и слушать, и когда можно было позволить собеседникам вести неофициальную, непринужденную беседу, обсуждая разные темы, ибо вне поезда мои сотрудники работали, как каторжники. И вот теперь такая железнодорожная передышка обретала историческое значение, а случай преобразовал обычные разговоры компаньонов на животрепещущие темы в политическое событие, в центре которого они оказались. И когда позже Временное правительство не действовало согласно «нашему докладу», естественно, вся вина упала на других советчиков, которые играли на «слабости» премьера. Люди, желающие править, должны уметь спокойно выслушивать других и позволять им высказывать свои мысли, потому что это позволяет человеку соприкоснуться с еще неосознанными надеждами и стремлениями представителей разных социальных кругов. Разумеется, мы не освобождали себя от работы даже в поезде. Поэтому в данном случае я внимательно прислушивался ко всем заключениям Савинкова по военным вопросам и к его беглой характеристике генерала Корнилова, поскольку в будущем им обоим было суждено занять более ответственные посты.]
Параграф 3
Председатель. Каково было ваше отношение, а также отношение Временного правительства к предложению генерала Корнилова об укреплении дисциплины в армии и возвращении порядка на фронте и в тылу? А также относительно его программы и приказов после того, как он был назначен Верховным главнокомандующим?
Керенский. Ну, понимаете ли, здесь следует рассмотреть обе стороны вопроса: суть его желаний и внешние формы, в которые он их облек. По существу, предложенный им план уже отчасти был выработан Временным правительством, и ожидалось, что он будет применен на практике в соответствии с мерами правительства, которые предусматривали координацию отношений между комитетами, комиссарами и командным составом; определение их прав и обязанностей; укрепление армейской дисциплины, восстановление и укрепление авторитета офицеров и т. д. Все это уже было выработано правительством. Единственное новшество состояло в том, что предложения стали требованиями, выдвинутыми генералом Корниловым в адрес Временного правительства, что было особо подчеркнуто. Более того, он настаивал на репрессиях, например, на смертной казни, революционных трибуналах в тылу и т. д. Часть Временного правительства ратовала за полное принятие «требований» генерала Корнилова. Я лично и большинство его состава придерживались такого мнения, что требования Корнилова, как и все предложения других командующих, какой бы высокий пост они ни занимали, могли лишь служить материалом для свободного обсуждения Временным правительством. Ибо мы в принципе не могли отклониться от принятого курса действий, который состоял в постепенном введении необходимых мер, без создания при этом ненужных потрясений в армии и в стране. Что же касается формы требований Корнилова, то здесь Временное правительство, выступив единодушно, было вынуждено энергично протестовать против ультимативной манеры Корнилова, чтобы защитить права и престиж верховной власти государства.
Первый свой ультиматум генерал Корнилов представил немедленно после его назначения на пост Верховного главнокомандующего и еще до того, как он покинул Бендеры. Я отправил ему общепринятую телеграмму с поздравлением, выражая надежду, что под его командованием и т. д. Короче говоря, в тексте было то, что обычно говорится в подобных случаях. Мне казалось, что этот человек честно желает работать, и будет делать это. В ответе на мою телеграмму я сразу же и получил этот первый ультиматум. Вы знаете, дело Черемисова. Я сказал Временному правительству, что мы должны немедленно отправить в отставку Корнилова и что если мы желаем восстановить дисциплину в армии, то мы должны начать, приведя в пример Ставку главнокомандующего. Однако мое предложение не было принято, а Корнилов истолковал нашу снисходительность как признак беспомощности.
[На самом деле генерал Корнилов во время первых суток своего пребывания на посту Верховного главнокомандующего умудрился послать мне две ультимативные телеграммы, с которыми я поступил не одинаково. Я просто для себя отметил первую телеграмму. Я не стал докладывать Временному правительству, несмотря на то что в ней содержались не больше не меньше как «условия», при которых генерал Корнилов соглашался оставаться главнокомандующим. Вот текст его ультиматума: «Как солдат, обязанный показывать пример военной дисциплины, я повинуюсь приказу Временного правительства, назначающего меня на пост Верховного главнокомандующего; но теперь, будучи им и гражданином свободной России, я заявляю, что буду оставаться на этом посту столько времени, насколько, по моему убеждению, я буду полезным для моей страны и установления режима. В соответствии с вышеприведенным утверждением, заявляю, что я принимаю это назначение, но при этом выдвигаю следующие условия: 1. Я несу ответственность только перед своей совестью и всем народом. 2. Абсолютное невмешательство в мои властные приказы, включая назначения на высшие командные посты. 3. Распространение всех мер, недавно принятых на фронте на все районы в тылу, где находятся резервы армии. 4. Принятие моих предложений, обозначенных в телеграмме в адрес совещания 16 июля в Ставке…»
Сегодня, оглядываясь на события, произошедшие позже, я могу сказать, что эти «условия» производят гораздо менее наивное впечатление, чем это было 20 июля 1917 года. Тогда, если бы к ним отнеслись серьезно, официальное обсуждение ультиматума генерала Корнилова, действующего «теперь, как Верховный главнокомандующий», могло бы привести к неизбежным последствиям (см. пункты 1 и 2 условий), а именно – к отстранению генерала Корнилова с его поста с привлечением его к суду в соответствии с военным статутом. И все же, весь документ доказывал отсутствие хотя бы элементарного знания основ государственного управления в такой степени, что кажется невозможным корить этого отважного солдата, который, ничтоже сумняшеся, подписал документ, навязанный ему «случайными людьми». В то время я полностью разделял выраженное позднее мнение князя Г.Н. Трубецкого о генерале Корнилове.
«Мое общее мнение о Корнилове, – писал князь Трубецкой, – состоит в том, что он, прежде всего, солдат, неспособный ухватить сложные политические вопросы, и в качестве такового он являет собой особенно замечательный образец нашего командного состава». Вспоминаю, что, прочитав условия Корнилова, я вручил телеграмму Савинкову и Барановскому. Оба они сказали, что она не стоит внимания, а Савинков добавил, что на генерала снова оказали влияние беспринципные авантюристы, окружавшие его, и что, получив соответствующие объяснения, Корнилов осознает свою ошибку.
Если вы не будете забывать, что это были времена, когда «все и всякий» ничего, кроме «требований», не адресовал Временному правительству, когда отношение человека, требовавшего что-то, было единственно принятой формой отношений к властям; если вы поймете вполне закономерное поведение людей, опьяненных свободой после долгих лет рабства, властный стиль которых был выработан на уличных митингах и заседаниях Государственной думы (именно в такой манере вещал оратор со стороны «революционной демократии» и Главного комитета Союза офицеров), если вы будете все это держать в уме, то поймете, почему я посчитал условия генерала Корнилова простой литературой. Вдобавок к этому на фронте сложилось исключительно критическое положение, с которым надо было справиться с крайней осмотрительностью и вокруг которого шумели не из-за «политики», а из-за военного искусства; и я думаю, что каждый беспристрастный критик поймет, почему я просто запер телеграмму Корнилова в своем столе. Я не мог поступить с нею иначе.
Дело генерала Черемисова было совсем иного рода. На этот раз я имел дело не с простой литературщиной, но с весьма решительным актом, который требовал от верховной власти немедленной негативной реакции. В своем заявлении следственной комиссии генерал Корнилов сам приводит следующее описание своего «конфликта» из-за Черемисова с Временным правительством:
«Я был назначен Верховным главнокомандующим 10 июля согласно приказу Временного правительства. Я телеграфировал ответ, указывая, на каких условиях я считаю возможным принять этот пост. Одним из условий было абсолютное невмешательство Временного правительства во все назначения на должности Верховного командования… В ответ я получил телеграмму от военного министра, который признавал мое право назначать моих соратников, а на следующий день я узнал из прессы новость о том, что генерал Черемисов без моего ведома был назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Я был вынужден телеграфировать военному министру и просить его о том, чтобы он отменил это назначение. Я предупредил его, что в противном случае сочту невозможным принять на себя Верховное командование. 20 июля я телеграфировал Савинкову, сообщая ему, что не отправлюсь в Ставку прежде, чем не получу решительного ответа на мои телеграммы».
Во-первых, одновременное назначение генералов Корнилова и Черемисова приказом Сената было произведено 18 июля, то есть до того, как Корнилов выдвинул свои условия, и, следовательно, мой ответ на телеграммы генерала Корнилова от 19 июля не имел никакого отношения к событиям 18 июля. Тогда в моем ответе не содержалось согласия на условия «невмешательства». Я лишь признавал право генерала Корнилова как Верховного главнокомандующего делать такие назначения на командные посты, поскольку это в юрисдикции Верховного главнокомандующего. Однако это право никогда не оспаривалось. Дело в том, что закон, касающийся прав Верховного главнокомандующего, который был издан для великого князя Николая Николаевича, давал ему право назначать на командные посты людей, которые должны были пройти представление как кандидаты на этот пост и получить подтверждение от верховной власти. Этот закон оставался в силе после революции, а власть соверена передавалась Временному правительству. На практике и до и после революции взаимоотношения между верховной властью и Ставкой относительно назначений на высшие командные посты основывались в каждом случае на предварительных соглашениях. Я не могу вспомнить ни одного примера, чтобы Временное правительство назначило какого-нибудь военачальника, предварительно не посоветовавшись со Ставкой, или отказало бы подтвердить назначение, сделанное последней. С другой стороны, я должен засвидетельствовать, что ни генерал Алексеев, ни генерал Брусилов ни разу не воспользовались своим правом в особо значительных случаях, предварительно не проконсультировавшись с премьером или военным министром. Естественно, что попытка генерала Корнилова столь широко интерпретировать права Верховного главнокомандующего, чтобы сделаться полностью независимым от правительства, была обречена на провал. Во времена Корнилова Временное правительство извлекало максимум пользы из своего права контролировать и окончательно утверждать все назначения и при необходимости решительно вмешивалось в деятельность Ставки. И самое главное – генерал Корнилов, несмотря на мою телеграмму, продолжал настаивать на отставке генерала Черемисова и угрожал оставить свой пост в разгар наступления противника. Приняв пост Верховного главнокомандующего 19 июля, Корнилов произвольно медлил приступить к своим обязанностям и тянул до 24 июля. Это уже была не литература, но серьезное нарушение воинского долга, который грозил стране тяжкими последствиями.
Я чувствую себя виноватым в том, что, в конце концов, не настоял на немедленной отставке Корнилова, но… В те ужасные времена фронт отчаянно нуждался в сильной личности. Кроме того, если бы при тех обстоятельствах генерал Черемисов оставался на посту главнокомандующего Юго-Западным фронтом, то это принесло бы лишь один вред. Пытаясь судить об этом «конфликте», следует помнить, что генерал Черемисов, командовавший корпусом 8-й армии, провел успешные атаки в Галиче и добавил новые лавры к славе генерала Корнилова. Во время моего посещения 8-й армии, как раз накануне наступления на Галич, генерал Корнилов хорошо отзывался о Черемисове, и у меня сложилось личное впечатление о Черемисове как о человеке, способном командовать войсками в новых, послереволюционных условиях. По мнению любого непредубежденного человека, генерал Черемисов являлся наиболее естественным преемником Корнилова на Юго-Западном фронте. И когда под давлением обстоятельств я обоих назначил 18 июля, я и понятия не имел, что тем самым создал «конфликт».
С тех пор я еженедельно стал получать ультиматумы от генерала Корнилова. И здесь я снова повторяю, что я в высшей степени решительно боролся с этими ультиматумами и против его манеры так обращаться к Временному правительству. Я сражался с начала и до конца.
Эта борьба была особенно трудна потому, что я не мог и не желал использовать излюбленный метод как правых, так и левых партий – демагогию. Вам стоит лишь открыть газеты этого периода, чтобы увидеть, какую организованную демагогическую кампанию проводила Ставка посредством специальных корреспондентов, интервью и телеграмм-заявлений, которые появлялись в прессе, прежде чем достичь кабинета премьера, – и все они отзывались эхом демагогов слева. Учитывая нешуточную игру страстей, правительство пыталось всеми средствами успокоить социальную атмосферу, поддержать авторитет Ставки как высшего военного центра в глазах демократии и держать генерала Корнилова в рамках таким образом, чтобы не создавать разногласий в армии. За время долгих недель борьбы не было ни одного примера враждебного акта, совершенного каким-либо членом правительства против Ставки. Наоборот, когда генерал Корнилов прибыл в Петроград 3 августа, я воспользовался возможностью поприветствовать его на собрании Временного правительства и проследил, чтобы об этом факте было упомянуто во всех газетах. Как раз накануне и во время Московского государственного совещания, как можно будет увидеть позднее, правительство предпринимало шаги к тому, чтобы Корнилов не скомпрометировал себя. Правительственный конфликт с Корниловым принял форму пассивного сопротивления, главной целью которого было недопущение со стороны генерала и его сторонников шагов, выходящих за рамки, очерченные Временным правительством таким образом, чтобы все попытки Корнилова использовать правительство как средство для достижения его собственных целей обернулись крахом. Временное правительство исполняло волю всего народа, выраженную в соглашении между всеми политическими партиями, которые делегировали своих представителей в него. Единственный способ заставить Временное правительство отклониться от этой общенациональной программы в интересах одной, отдельной партии заключался в свержении этого правительства. 27 августа такая попытка провалилась, однако была успешно завершена 23 октября.]