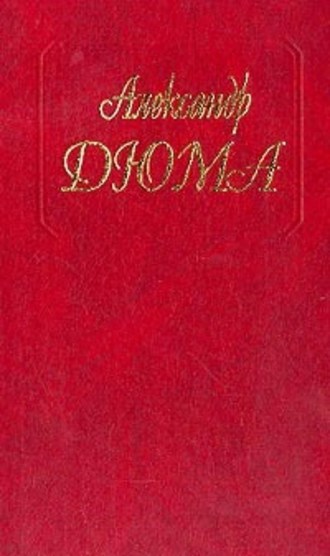
Александр Дюма
Белые и синие
XI. БРАТ И СЕСТРА
Палачи, которые, казалось, уже устали, просто захмелели. Однако подобно тому как вид вина, по-видимому, придает силу пьянице, запах крови, по-видимому, придает силу убийце.
Все эти душегубы, дремавшие лежа во дворе, при имени Фарга открыли глаза и поднялись.
Граф был жив и получил лишь несколько легких ран; но, как только он очутился посреди этих каннибалов, он понял, что ему не избежать смерти; думая лишь о том, как бы ускорить смерть и сделать ее как можно менее мучительной, он бросился на человека, стоявшего ближе всех от него с обнаженным ножом в руке, и так сильно укусил его за щеку, что тот забыл обо всем на свете и, чтобы избавиться от страшной боли, непроизвольно выбросил руку вперед; нож наткнулся на грудь графа и вонзился в нее по самую рукоятку. Граф упал, не проронив ни звука: он был мертв.
Тогда палачи, которым не удалось поиздеваться над живым человеком, надругались над его трупом: ринулись к убитому, стремясь заполучить кусочки его плоти.
Когда цивилизованные люди ведут себя подобным образом, они мало чем отличаются от дикарей Новой Каледонии, питающихся человеческим мясом.
Убийцы развели костер и бросили в него тело де Фарга; чествование всякого нового бога или новой богини, как видно, не обходится без человеческих жертв, и свобода папского города в один день обрела мученика-патриота в лице Лекюйе и мученика-роялиста в лице Фарга.
В то время как в Авиньоне разворачивались эти события, двое детей, не ведая о том, что происходит, находились в маленьком домике, который стоял под сенью трех деревьев и потому назывался «домом трех кипарисов». Их отец отправился утром в Авиньон, как нередко уезжал и раньше; когда он захотел к ним вернуться, его схватили у одной из городских застав.
В первую ночь дети не слишком волновались: у графа де Фарга было два дома – за городом и в городе, и он зачастую оставался на день-два в Авиньоне из-за дел или ради развлечений.
Люсьену нравилось жить в этой деревне: он ее очень любил. Не считая кухарки и камердинера, лишь обожаемая сестра, которая была моложе его на три года, разделяла с ним уединение. Она, со своей стороны, отвечала на его братскую любовь с пылкостью, присущей южанам, не умеющим ненавидеть или любить вполсилы.
Молодые люди вместе выросли и никогда не разлучались; невзирая на различие пола, у них были одни и те же учителя, которые преподавали им одни и те же предметы; поэтому в свои десять лет Диана немного походила на мальчика, а Люсьен в свои тринадцать лет – на девушку.
Поскольку от деревни до Авиньона было не более трех четвертей льё, уже на следующее утро они узнали от поставщиков о творившихся там злодеяниях. Дети испугались за отца. Люсьен приказал оседлать коня; но Диана не захотела отпускать его одного; у нее была такая же лошадь, как у брата, и она умела ездить верхом не хуже, если не лучше, чем он; она сама оседлала коня, и они галопом помчались в город.
Как только они прибыли туда и начали наводить справки, им сообщили, что их отца недавно задержали и потащили в сторону папского дворца, где заседал трибунал, судивший роялистов. Получив эти сведения, Диана тотчас же пустила коня вскачь и поднялась по крутому склону, ведущему к старой крепости. Люсьен скакал в десяти шагах позади нее. Почти одновременно они въехали во двор, где еще дымились последние головешки костра, куда бросили тело их отца. Некоторые убийцы узнали их и закричали:
– Смерть волчатам!
И они приготовились схватить лошадей под уздцы, чтобы стащить сирот на землю. Один из них взял коня Дианы за удила, но получил удар хлыстом, рассекший ему лицо. Этот поступок девочки – законное средство защиты – привел палачей в ярость, и их крики и угрозы усилились. Но тут Журден Головорез вышел вперед; то ли от усталости, то ли под влиянием еще теплившегося в нем чувства справедливости проблеск человечности мелькнул в его сердце.
– Вчера, – обратился он к палачам, – в разгар битвы и мести мы еще могли перепутать виновных с невиновными, но сегодня нам уже не дозволено совершать ту же ошибку. Граф де Фарга был виновен в оскорблении Франции, в преступлении против человечества. Он водрузил цвета национального флага на позорную виселицу, он же приказал убить Лекюйе. Граф де Фарга заслужил смертный приговор, и вы привели его в исполнение. Все в порядке: Франция и человечество отомщены! Дети же не участвовали ни в одном из этих варварских злодеяний отца, стало быть, они невиновны! Пусть они уходят и никогда не говорят то же, что мы можем сказать о роялистах; пусть не говорят: все патриоты – убийцы.
Диана не хотела отступать без возмездия: для нее это было равносильно бегству; но их с братом было только двое, и они не могли постоять за себя. Люсьен взял ее лошадь за повод и увел со двора.
Вернувшись домой, сироты обняли друг друга и залились слезами; у них не осталось больше никого на свете, кого они могли бы любить.
Отныне любовь брата и сестры стала еще сильней.
И вот они выросли: Диане исполнилось восемнадцать лет, Люсьену – двадцать один год.
В это время произошел термидорианский переворот. Их имя было залогом политических убеждений: они не искали никого, но к ним пришли. Люсьен невозмутимо выслушал сделанные ему предложения и попросил дать ему время их обдумать. Диана с жадностью ловила каждое слово и дала понять, что берется убедить брата согласиться. И правда, как только они остались наедине, она выдвинула великий довод: положение обязывает!
Люсьену с детства привили роялистские взгляды и религиозные чувства, он должен был отомстить за отца; сестра оказала на него огромное воздействие, и он дал свое согласие. Отныне, то есть с конца 1796 года, он стал членом общества Соратников Иегу, так называемого Южного общества.
Остальное нам известно.
Трудно описать словами, какие неистовые чувства обуревали Диану с тех пор, как ее брата арестовали, и до того момента, как она узнала, что его перевезли в департамент Эн. Она немедленно взяла все деньги, какие у нее были, села в почтовую карету и уехала.
Мы уже знаем, что Диана приехала в Нантюа слишком поздно и узнала о том, что брата похитили, а в канцелярии суда случился пожар. Благодаря проницательности судьи она смогла понять, с какой целью все это было совершено.
В тот же день, около полудня, она прибыла в гостиницу
«Пещеры Сезериа», тотчас же отправилась в префектуру и рассказала там о событиях в Нантюа, о которых в Бурке еще не слышали.
Слухи о делах Соратников Иегу уже не впервые доходили до префекта. Бурк был роялистским городом. Большинство его жителей сочувственно относились к этим молодым outlaws note 22, как говорят в Англии. Зачастую, когда префект давал распоряжения следить за ними или арестовать кого-либо из них, его приказы как бы наталкивались на незримую сетку, натянутую вокруг него, и, хотя трудно было до конца во всем разобраться, он все же догадывался о тайном сопротивлении, парализующем действия власти. На сей раз ему было четко и ясно заявлено: некие люди силой вырвали своего сообщника из тюрьмы; они же силой заставили секретаря суда отдать дело, в котором фигурировали имена четырех их братьев по Южному обществу; кто-то видел, как эти люди возвращались в Бурк после того, как совершили в Нантюа преступления.
Он призвал к себе начальника жандармерии, председателя суда и комиссара и велел Диане повторить ее обвинения против грозных незнакомцев. Затем префект пообещал Диане в течение трех дней выяснить что-то определенное и предложил ей провести эти дни в Бурке. Девушка догадалась, что префект был лично заинтересован в том, чтобы поймать тех, кого она преследовала, и поздним вечером вернулась в гостиницу, разбитая усталостью и умирающая с голоду, ибо почти не ела с тех пор, как уехала из Авиньона.
Поев, она легла спать и уснула глубоким сном, с помощью которого молодость борется со страданием и побеждает его.
На следующее утро ее разбудил страшный шум у нее под окнами. Она встала, взглянула сквозь жалюзи, но увидела только огромную толпу, прибывавшую с разных сторон. При этом зрелище сердце ее сжалось от горестного предчувствия: что-то подсказывало ей, что ее ожидает новое испытание.
Она набросила халат, и, не закалывая волос, распущенных перед сном, открыла окно и свесилась через перила балкона.
Выглянув на улицу, она тотчас же испустила пронзительный вопль, отпрянула назад, устремилась вниз по лестнице с растрепанными волосами и мертвенно-бледным лицом, как безумная бросилась к телу, вокруг которого скопился народ, и закричала:
– Брат! Брат!
XII. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ СНОВА ВСТРЕТИТСЯ СО СТАРЫМИ ЗНАКОМЫМИ
Теперь читателям предстоит последовать за нами в Милан, где, как уже говорилось, находится ставка Бонапарта (его уже не зовут Буонапарте).
В тот же день и в тот же час, когда поиски Дианы де Фарга закончились столь трагическим и мучительным образом, трое солдат вышли из казармы, где располагалась Итальянская армия, и еще трое вышли из соседней казармы, отданной в распоряжение Рейнской армии. Когда генерал Бонапарт после своих первых побед попросил подкрепление, две тысячи солдат из армии Моро были во главе с Бернадотом откомандированы в Итальянскую армию.
Две группы солдат направились к Восточным воротам, следуя на некотором расстоянии друг от друга. За этими воротами, расположенными ближе всего к казармам, обычно происходили частые дуэли между соперничавшими в отваге и имевшими различные убеждения солдатами с севера и теми, кто постоянно сражался на юге.
Армия всегда равняется на своего командующего, его талант оказывает влияние на офицеров и от офицеров передается солдатам. Дивизия Рейнской армии Моро, прибывшая для соединения с Итальянской армией, во всем следовала примеру Моро.
Именно на нем, а также на Пишегрю остановила свой выбор роялистская группировка. Пишегрю был уже готов уступить. Однако ему надоели колебания принца де Конде, не желавшего впускать во Францию неприятеля, предварительно не оговорив прав государя, которого он возведет на трон, и прав, которые получит народ. Все свелось к бесплодной переписке между генералом и принцем де Конде. Поэтому Пишегрю решил в свою очередь совершить переворот, опираясь не на свой авторитет полководца, а на высокое положение, которое создали ему сограждане, избрав его председателем Совета пятисот.
Республиканские взгляды Моро были непоколебимы. Беспечный, сдержанный, хладнокровный, интересовавшийся политикой лишь в меру своего ума, он выжидал, довольствуясь похвалами друзей и роялистов по поводу его прекрасного отступления с берегов Дуная, которое они сравнивали с отступлением Ксенофонта.
Его воины были столь же хладнокровными и такими же сдержанными, как он, и были приучены им к дисциплине.
Итальянская армия, напротив, состояла из мятежных южан, отличавшихся как страстностью убеждений, так и неистовой отвагой.
Взоры всей Европы были прикованы к этой армии, заявившей о себе полтора года назад, и к тому месту, где ярче всего засиял ореол французской славы. Воины гордились не отступлением, а своими победами. Они не были забыты правительством, как Рейнская армия и армия, действовавшая в районе Самбры и Мёзы: генералы, офицеры и солдаты были осыпаны почестями, деньгами, пресыщены удовольствиями. Находясь на службе сначала под началом генерала Бонапарта, этого солнца, что уже полтора года заливало мир своим ослепительным светом; затем – под командованием генералов Массена, Жубера и Ожеро, являвших пример горячей приверженности Республике, – воины, благодаря Бонапарту (он приказал раздавать им газеты и разъяснял содержание статей), были осведомлены о событиях, происходящих в Париже: о наступлении реакции, грозившей не менее сильными потрясениями, чем во время вандемьера. Для этих людей – они не вели политических споров, а получали свои убеждения в готовом виде – Директория, сменившая Конвент и ставшая его преемницей, была все тем же революционным правительством, которому они присягнули в 1792 году. Теперь, когда они разбили австрийцев и считали, что им больше нечего делать в Италии, они хотели только одного: снова перейти через Альпы и вернуться в Париж, чтобы рубить аристократов саблей.
В двух группах, которые, как мы видим, двигались к Восточным воротам, находились представители обеих армий.
В одной из групп, как можно было заметить по мундирам солдат, шагали неутомимые пехотинцы, штурмовавшие Бастилию, а затем обошли весь мир; там были старший сержант Фаро, женившийся на Богине Разума, и два его неразлучных спутника – Грозейе и Венсан, дослужившиеся до почетного чина сержанта.
В другой группе, состоявшей из кавалеристов, находились егерь Фалу, произведенный Пишегрю в сержанты, как помнит читатель, а также два его товарища: сержант и капрал.
Фалу, принадлежавший к Рейнской армии, не продвинулся по службе ни на шаг с тех пор, как Пишегрю пожаловал ему этот чин.
Фаро, служивший в Итальянской армии, остался в том же чине, который он получил за взятие виссамбурских линий и на котором обычно останавливаются все бедняги, чье образование не позволяет им выйти в офицеры, но ему дважды объявляли благодарность в приказе по полку, и сам Бонапарт призвал его к себе и сказал:
– Фаро, ты храбрец!
Две благодарности в приказе и слова Бонапарта радовали Фаро ничуть не меньше, чем если бы его произвели в чин младшего лейтенанта.
Сержант Фалу и старший сержант Фаро обменялись накануне речами, которые, как им показалось, требовали прогулки к Восточным воротам. Это значит, что двое приятелей, как принято говорить в подобных случаях, собирались освежиться, скрестив шпаги.
В самом деле, как только они вышли за ворота, секунданты принялись искать подходящее место, где каждый из соперников мог бы отойти от другого на равное расстояние в рассчитывать на одинаковое освещение. Когда такое место было найдено, его показали дуэлянтам; они одобрили выбор секундантов и сочли своим долгом немедленно перейти к делу, сбросив свои фуражки, мундиры и жилеты. Затем каждый из них засучил правый рукав своей рубашки выше локтя.
На руке Фаро красовалась татуировка в виде объятого пламенем сердца с подписью: «Все во имя Богини Разума!»
Фалу, менее категоричный в своих чувствах, носил на руке эпикурейский девиз: «Да здравствует вино! Да здравствует любовь!»
Дуэль должна была состояться на пехотных саблях, прозванных «огнивами», вероятно, из-за того, что при ударах друг о друга они высекают огонь. Противники взяли сабли из рук своих секундантов и устремились в бой.
– Черт побери, как можно драться этим кухонным ножом? – спросил егерь Фалу, привыкший к длинной кавалерийской сабле и вертевший «огниво» в руках, как перышко. – Этой саблей хорошо рубить капусту да чистить морковь.
– Он годится также для того, – отвечал Фаро с характерным для него подергиванием шеей, о чем мы уже упоминали, – чтобы укорачивать усы противникам, которые не боятся подходить к нам близко.
С этими словами старший сержант сделал вид, что целится в бедро противника, и собрался нанести ему удар по голове, но тот успел отразить этот выпад.
– О-о! – воскликнул Фалу, – потише, сержант! Усы положены по уставу; в армии не разрешено их срезать и тем более позволять кому-то это делать; того, кто позволяет себе подобную бестактность, обычно наказывают за это… наказывают за это… – повторил егерь Фалу, собираясь сделать решающий выпад, – наказывают за это кистевым ударом!
И прежде чем Фаро успел парировать, противник нанес ему удар, в названии коего содержится обозначение той части руки, против которой он направлен.
Из руки Фаро тотчас же брызнула кровь.
Однако, сердясь из-за того, что его ранили, он воскликнул:
– Пустяки! Пустяки! Давайте продолжать! И вернулся в боевую позицию. Но секунданты встали между противниками и заявили, что дуэль окончена. Услышав это, Фаро бросил оружие и вытянул руку. Один из секундантов вытащил из кармана носовой платок и с ловкостью, свидетельствовавшей о привычке к такого рода делам, принялся перевязывать рану. Он уже наполовину закончил эту процедуру, как вдруг из-за деревьев, в двадцати шагах от них, показалась группа всадников из семи-восьми человек.
– Ух! Это главнокомандующий! – вскричал Фалу. Солдаты озирались в поисках укромного места, где они могли бы скрыться от взора своего генерала, но он уже увидел их и, пришпорив коня и стегнув его плетью, поскакал по направлению к ним. Солдаты застыли, правой рукой отдавая честь и прижимая левую руку к ноге. Из руки Фаро струилась кровь.
XIII. ГРАЖДАНЕ И ГОСПОДА
Бонапарт остановился в четырех шагах от них и сделал знак офицерам своего штаба оставаться на месте. Застыв на словно окаменевшей лошади, слегка сгорбившись из-за жары и недомогания, с неподвижным взором и полузакрытыми ресницами, едва пропускавшими солнечный свет, он казался бронзовым изваянием.
– Кажется, – произнес он сухо, – здесь дерутся на дуэли? Однако всем известно, что я не выношу дуэлей. Кровь французов принадлежит Франции, и ее следует проливать только во имя Франции.
Затем он оглядел обоих противников и в конце концов остановил взгляд на старшем сержанте.
– Как случилось, – продолжал генерал, – что такой храбрец, как ты, Фаро…
Уже с того времени из принципа, вернее, по расчету, Бонапарт стал запоминать отличившихся воинов в лицо, чтобы при случае называть их по имени. Это неизменно производило впечатление.
Фаро вздрогнул от радости, услышав свое имя из уст главнокомандующего, и поднялся на цыпочки.
Бонапарт заметил это движение, усмехнулся про себя и продолжал:
– Как случилось, что такой храбрец, как ты, кому дважды объявлялась благодарность в приказе по полку, первый раз – в Лоди, второй – в Риволи, нарушает мой приказ? Что касается твоего противника, которого я не знаю…
Главнокомандующий нарочно выделил последние слова. Фалу поморщился, словно ему воткнули в бок иголку.
– Прошу прощения, извините, мой генерал! – прервал он Бонапарта. – Вы не знаете меня оттого, что еще слишком для этого молоды; оттого, что вы не были в Рейнской армии и не участвовали в битве при Дауэндорфе, в сражении при Фрошвейлере и взятии виссамбурских линий. Если бы вы там были…
– Я был в Тулоне, – резко оборвал его Бонапарт. – И если в Виссамбуре вы прогнали пруссаков из Франции, то я изгнал англичан из Тулона, что было не менее важно.
– Это правда, – сказал Фалу, – мы даже заочно объявили вам благодарность в приказе, мой генерал. Стало быть, я был не прав, сказав, что вы слишком молоды; я признаю это и приношу вам свои извинения. Но я был прав, сказав, что вас там не было, поскольку вы сами признаете, что были в Тулоне.
– Продолжай, – сказал Бонапарт. – Ты хочешь еще что-то сказать?
– Да, мой генерал, – отвечал Фалу..
– Ну что ж, говори, – продолжал Бонапарт. – Но коль скоро мы республиканцы, – будь добр называть меня «гражданин генерал» и обращаться ко мне на «ты».
– Браво, гражданин генерал! – воскликнул Фаро. Его секунданты Венсан и Гросейе кивнули в знак одобрения.
Секунданты Фалу оставались неподвижными, не выказывая ни одобрения, ни порицания.
– Ну так вот, гражданин генерал, – продолжал Фалу с непринужденностью, привнесенной в армию принципом равноправия, – если бы ты был, к примеру, в Дауэндорфе, ты бы увидел, как во время кавалерийской атаки я спас жизнь генералу Аббатуччи, который стоит многих.
– А-а! – воскликнул Бонапарт, – я благодарю тебя. Полагаю, что Аббатуччи в некотором роде мой кузен.
Фалу поднял свою кавалерийскую саблю и показал ее Бонапарту; тот удивился, увидев у обыкновенного сержанта генеральское оружие.
– По этому случаю, – продолжал он, – генерал Пишегрю, который стоит многих, – он сделал ударение на оценке генерала Пишегрю, – видя, до какого состояния я довел мою бедную саблю, подарил мне свою, и она, как вы видите, не совсем уставного образца.
– Опять! – вскричал генерал, хмуря брови.
– Прости, гражданин генерал! Как ты видишь, я все время ошибаюсь, но что поделаешь! Гражданин генерал Моро не приучил нас к тыканью.
– Как! – сказал Бонапарт, – республиканец Фабий настолько не считается с республиканским языком? Продолжай, ибо я вижу, что ты хочешь еще что-то мне сказать.
– Я хочу тебе сказать, гражданин генерал, что если бы ты был при Фрошвейлере в тот день, когда генерал Гош, который тоже стоит многих, назначил по шестьсот франков за прусские пушки, ты бы увидел, что я захватил одну из этих пушек и по этому случаю был произведен в сержанты.
– И ты получил шестьсот франков? Фалу покачал головой.
– Мы пожертвовали эти деньги вдовам храбрецов, погибших в сражении при Дауэндорфе, и я получил только свое жалованье, которое извлекли из фургона принца де Конде.
– Бескорыстный смельчак! Продолжай, – сказал генерал. – Мне нравится слушать, когда такие солдаты, как ты, из-за того, что нет газетчиков, которые бы их превозносили, а также клеветали на них, сами произносят панегирики в свою честь.
– Наконец, – продолжал Фалу, – если бы ты присутствовал при взятии виссамбурских линий, ты бы узнал, как я убил двух из трех набросившихся на меня пруссаков; правда, я не успел сразу же отразить удар (вот откуда у меня шрам, что вы видите… я хочу сказать, ты видишь), я ответил ударом сабли, и от него мой противник отправился вслед за своими приятелями… За это меня произвели в старшие сержанты.
– Все это правда? – спросил Бонапарт.
– О гражданин генерал! Если это требуется подтвердить, – произнес Фаро, подходя к Бонапарту и поднимая к виску перевязанную руку, – я готов засвидетельствовать, что сержант сказал чистую правду и скорее преуменьшил, чем преувеличил свои заслуги. Он прославился в Рейнской армии.
– Хорошо, – промолвил Бонапарт, по-отечески глядя на двух солдат, один из которых восхвалял другого, хотя только что они дрались на саблях. – Рад с тобой познакомиться, гражданин Фалу. Я надеюсь, что ты будешь служить в Итальянской армии не хуже, чем в Рейнской. Но как же случилось, что два таких удальца сделались врагами?
– Мы, гражданин генерал? – удивился Фалу. – Мы не враги.
– Почему же, черт побери, вы дрались, раз вы не враги?
– А! – сказал Фаро с характерным для него движением шеи, – мы дрались просто так.
– А если бы я сказал, что хочу знать, почему вы дрались?
Фаро посмотрел на Фалу, как бы спрашивая у него разрешения.
– Если уж гражданин генерал хочет знать, – ответил тот, – я не вижу причин скрывать это от него.
– Ну ладно, мы дрались… Мы дрались… из-за того, что он назвал меня «господином».
– А ты хочешь, чтобы тебя называли…
– …гражданином, черт побери! – воскликнул Фаро. – Это звание нам обходится достаточно дорого, и поэтому мы им дорожим. Я же не аристократ, как эти господа из Рейнской армии.
– Ты слышишь, гражданин генерал, – вскричал Фалу, топнув ногой от возмущения и схватившись за эфес своей сабли, – он зовет нас аристократами!
– Он не прав, и ты тоже не прав, назвав его «господином», – отвечал главнокомандующий. – Все мы дети одной семьи, сыновья одной и той же матери, граждане одной и той же родины. Мы сражаемся за Республику, и не пристало таким храбрецам, как вы, отрекаться от нее в тот момент, когда все короли ее признали. В какой дивизии ты служишь? – спросил он у сержанта Фалу.
– В дивизии Бернадота, – отвечал Фалу.
– Бернадота? – переспросил Бонапарт. – Бернадот, тот самый волонтер, который был в восемьдесят девятом году еще старшим сержантом, храбрец, произведенный Клебером в бригадные генералы на поле битвы, ставший дивизионным генералом после побед при Флёрюсе и Юлихе, человек, который заставил Маастрихт сдаться и взял
Альтдорф – этот Бернадот поощряет в своей армии аристократов! Я считал его якобинцем. А ты, Фаро, в каком корпусе служишь?
– В корпусе гражданина генерала Ожеро. Уж его-то никто не обвинит в том, что он аристократ! Он, как и вы, то есть, как и ты, гражданин генерал, требует, чтобы к нему обращались на «ты». Так что, когда те, что прибыли из армии Самбры и Мёзы, стали величать нас «господами», мы договорились: «За каждого „господина“ – удар саблей. Решено? Решено». С тех пор, должно быть, уже в двенадцатый раз, мы, дивизия Ожеро, сражаемся с дивизией Бернадота. Сегодня я расхлебываю кашу. Завтра на моем месте будет один из тех, кто любит обращение «господин».
– Завтра не будет никого, – повелительно сказал Бонапарт. – Я не хочу дуэлей в армии. Я уже сказал это и повторяю еще раз.
– И все же… – пробормотал Фаро.
– Хорошо, я поговорю об этом с Бернадотом. А пока потрудитесь неукоснительно блюсти республиканские традиции, называть друг друга гражданами и обращаться друг к другу на «ты», будь перед вами воины армии Самбры и Мёзы или солдаты Итальянской армии. Вы оба отправитесь на сутки на гауптвахту в назидание другим. А теперь, пожмите друг другу руки и ступайте рука об руку как добрые друзья.
Соперники приблизились друг к другу и обменялись чистосердечным и крепким рукопожатием; затем Фаро перебросил свой мундир через левое плечо и взял Фалу под руку. Секунданты последовали их примеру, и все шестеро вернулись в стены города через Восточные ворота и спокойно направились к казарме.
Генерал Бонапарт посмотрел им вслед и с улыбкой прошептал:
– Храбрецы! С такими солдатами, как вы, Цезарь перешел Рубикон, но еще не время поступать как Цезарь.
– Мюрат! – громко позвал он.
Молодой темноволосый усатый человек лет двадцати четырех, с живыми, умными глазами, пришпорил коня и в мгновение ока оказался возле главнокомандующего.
– Мюрат, – сказал тот, – ты немедленно отправишься в Виченцу, где находится Ожеро, и доставишь его ко мне во дворец Сербелони. Скажи ему, что первый этаж дворца свободен и он может там расположиться.
– Черт побери! – пробормотали те, кто видел эту сцену, но не слышал слов Бонапарта. – Генерал Бонапарт как будто не в духе.






