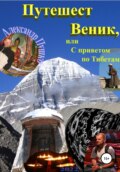Александр Борисович Пушко
Капитан и Хранители Души
Глава 14. Баба Нюра.
Открою тебе секрет: безумцы всех умней (с).
Льюис Кэрролл.
Очнувшись, Иван не был удивлён. В кроваво-красном тумане его не-то сна, не-то забытья, не-то больного бреда был он в церкви, которая ужасно похожа была на ту, рядом с их лагерем, где благословляла их Вера. И очнувшись, он осознал, что, похоже, лежал в той самой церкви, глядя пустыми глазами в высоченный, оттого, что лежал он на полу, свод. Лежал точно так, как пять с лишним сотен лет назад лежал перед своей смертью после неудачной попытки сбросить из под купола этой самой церкви Симона Разю, купец Тимофей.
Солнце едва проникало в похожие на бойницы окна, освещавшие купол. Был он неаккуратно закрашен побелкой и только два пятна выделялись, одно от солнца, яркое белое, видимо от проплывающих облаков оно иногда шевелилось, создавая иллюзию объёмности. Другое тёмное на противоположной стене, настолько тёмное что казалось, собрало всю тень с окружающей поверхности. Подняв чугунную голову, и увидев ещё несколько бойцов с его лагеря, он окончательно убедился, да это именно та церковь. Как он попал сюда, может сон и не был сном?
Только вот во сне была церковь не заброшена, а как раз наоборот, аккуратно выбелена. В окнах были стекла разноцветной мозаики, а на потолке красивая роспись с картиной страшного суда или что-то вроде. Он стоял в центре зала, а с ним ещё несколько незнакомцев, в странной одежде, не-то иностранной, не-то шутовской. И видел он два пламени, одно ослепительно белое, другое завораживающе чёрное. И голос в церкви, что-то говорил о каком-то факте, почему-то из артели, хотя многое что там говорили, было странным, вроде и по-русски, а не понятно, о чём. И ещё о том говорили, что должен он спасти то ли кого-то, то ли весь мир, а для этого должен он думать сердцем, а не разумом.
И потом в его сне вдруг появился Василий с кровью, текущей по рваной ране на лбу, а тело его так и было разорвано гранатой, каким видел его Иван в последний раз, и сказал: «Выживи!». Потом вдруг мама стала звать его, да так тоскливо и жалобно, как и в детстве-то, никогда не звала: «Ванятка, сынок мой! Куда ж ты ушёл, куда забрали тебя эти ироды!» И так протяжно, протяжно, нараспев, как говорят местные, деревенские бабы.
Иван рывком сел, боль пронзила затылок, сознание вернулось как от резкого запаха нашатыря. Голос, последний голос, голос матери, был настоящим, не из сна!
Мама!? Как она оказалась здесь!? Как, здесь же опасно! Неужели она узнала, что их не эвакуировали, и приехала его искать. Как же она перепугается, увидев его таким. Нет, она ведь и сама в опасности, ведь наверняка его заперли здесь немцы!
Он вскочил, помутнело в глазах, но он пошёл к дверям.
–Миллер, стой! – истошно заорал его сокурсник, прижимаясь к стене, – Они стреляют во всех, кто подходит к дверям. Стой, Миллер!
Иван и вправду услышал звук затворов, но потом чей-то окрик и быстрая речь на немецком. Грохнул засов и двери открылись. Его ослепил яркий свет он, начал было, поднимать руку, но автоматы в руках солдат резко отреагировали, и он замер, слепо оглядываясь по сторонам.
–Мама!?
Незнакомая женщина, почти бабка по городским меркам, хотя может и ровесница его мамы, ведь в деревне женщины рано становятся бабульками, кинулась к нему, собрав его в охапку в поясе и прижавшись к его груди щекой.
–Сынок, Ванятка! А я ж говорила, не верила, что ты умер. Хотя все только и талдычили, похоронили, похоронили.
Молоденький офицер, предупредительно держащий руку в сторону солдат, подошел к ним.
–Ты есть Мюллер? Ваньядка? – сказал он, тщательно выговаривая русские слова, – Как так? Этоо есть немецкая фамилия?
–Я Иван Миллер. Фамилия от предков.
–Да контузило его, господин – затараторила женщина, я ж говорю, как снаряд-то ваш в дом нам попал, батьку нашего зашибло вусмерть, а Ванятка вон потерялся, так я его ищу, сколько дней уже. Ванечка пошли домой, уж батьке-то девять дней, а я всё тебя никак не найду. Сынок он мой, господин хороший. Домой нам надо!
–Да это сумасшедшая наша, Нюрка, гер офицер – сказал подоспевший новый, назначенный взамен повешенного предшественника, полицай, – Дом её вон с краю деревни. Вы, когда подходили и шарахнули по нему из танка. Так её мужа и сына и завалило, а её видать сильно в голову-то ударило, вот она и ходит всё, не верит, что сына убило, от него и не осталось ничего, могилка пустая стоит. Только этот, не её сын, Ванька-то. Это как есть коммунисткая сволочь, что в лесу окапывалась!
–Замолчать! Когда я разговаривать! Мне интересно обстоятельство всего здесь происходить. С вами мы разбираться позже!
Полицай, быстро представив разбирательство со своим предшественником, поспешно ретировался.
–Сколько вам лет, молодой человек? Вы, правда, воевать тот лес?
–18. Да, я защищаю свою Родину.
–Там погибать больше ста пятидесяти моих, и ваших бывших, соотечественник. Вы понимать, что я вас должен казнь?
Кровь прилила к голове Ивана, но крепко впилась в него эта ополоумевшая от горя женщина, а в висках забились слова Крелина: «…правдами и не правдами выживи, ускользни, расскажи, как мы здесь умирали! Нет подвига в глупой смерти». И он промолчал.
–Я отпустить тебя. Ты слишком молод умирать. Я уважать эту мутер, её семья наша вина. Это возместить её потеря. Теперь иди, и чтобы тебя никто не видеть, пока мы здесь. Иди.
Женщина отпрянула от Ивана так резко, что он чуть не упал.
–Спасибо, мил человек, есть же правда. А ты чего встал, как вкопанный, Ваня? Иди уже.
И она поклонилась Мюллеру так резко, что теперь уже он отпрянул так, что солдаты загоготали. Курт, чтобы выправить ситуацию, громко объявил, что отпускает этого русского к его матери, и что того насильно забрали в лес коммунисты.
–Мы не захватчики, мы освободители!
Вскормленные пропагандой молодчики дружно вскинули руки.
Идя по деревне, баба Нюра громко вещала, что сын её Ванятка жив и здоров. Что всё они напраслину на неё говорили, и видела она, когда дом их полыхнул, как он в окно успел сигануть. А теперь вызволила она его, французики напольёновцы отпустили его!
Соседи кто сочувственно качали головой, кто испуганно или виновато отводили взгляды.
Зайдя во двор, они прошли мимо обгоревшего остова бревенчатого дома к бане, теперь, видимо, единственному жилью бабы Нюры. Едва зайдя в предбанник, Иван свалился в беспамятстве.
Очнулся он уже под утро. Баба Нюра сидела у окна в свете маленькой лампадки и глядела на свой разгромленный двор. Иван начал было продумывать, как не обидеть свою спасительницу и объяснить, что произошла ошибка, как вдруг она сама заговорила, так и продолжая глядеть куда-то вдаль, так что Иван не сразу понял, обращается ли она к нему, или говорит сама с собой.
–Тебя, парень, и правду Ваней зовут или ты так, чтобы спастись? Мне-то всё равно, просто, думаю, моего бы Ваню кто так спас бы, если б он не полёг от снаряда-то вражин этих. Сам-то ты откуда?
–Я? Я из Москвы. И да, я Иван. Я думал, что только меня Ваняткой мама зовёт.
–Москва, красиво там говорят. Хотя немцы вон бахвалятся, что будут там, через пару недель максимум. Да только не сдадут её, пока не сгорит она дотла, как в 1812-м.
–Так вы не…
–Не сумасшедшая? Нет. Только мне и терять теперь нечего. И кто теперь больше безумен, я или фашисты, творящие такое. Думала я сначала спалить их гнездо осиное, да вы им там, в лесу, такого жару дали, что они теперь засели как в крепости, тени собственной боятся. Не подойдёшь. Мне, сынок, сам Бог тебя спасти велел, хочешь – верь, хочешь – не верь. Тайная реликвия у нас в семье есть, иконка вот эта.
Женщина подняла с подола икону, которую Иван принял сначала за кирпич, лежащий на коленях у хозяйки.
–По легенде моя прапрапра, не знаю, сколько пра, сидела так в доме, аккурат на месте бани этой, а по шляху тикал всадник от татар ещё. И закинул он иконку эту прямо в окно, видать, знал, что не уйти от погони ему. След от стрелы татарской на ней даже, спасла она, видать, его, приняв на себя остриё, да только ненадолго. Они потом его вместе с церковью старой сожгли. И берегла нас иконка эта от татар, от поляков и от французов. Даже мужики с войн все целыми домой возвращались. И не только в нашей семье, а во всей деревне, за редким случаем. Все в деревне говорили, что это церковь наша такая чудотворная. Да только мы-то знали, что это от иконки этой. Только видишь, от этой немчуры не спасла она, видать, сам дьявол за ними. Хотя, может, мы сами этого заслужили? В 19-м году ещё церковь закрыли, а она бог как красива была. Креста сбили, внутри образа зашпатлевали, закрасили. То школу, то дом просвещения хотели устроить, а кто даже скотный двор, басурмане. Только не очень у нас она удобно расположена. У всех в деревнях церкви на самом красном переулке, в центре, а у нас поодаль, да на горке у леса. Как так получилось, никто не знает. Так и забросили её. Только не мы это от Бога отвернулись, а он от нас. Теперь нам и воздалось наверно, через это. Я вот приметила крестик у тебя и прямо на сердце легче, видимо есть ещё бог в нас. Ты, сынок, отдохни ещё чуток, да только слышала я, едет сюда ещё начальство их высокое на разбирательство. Бежать тебе надо. Я тебе одёжку собрала сыночка моего, у нас дороги-то только просёлочные. Тут немного их, немцев то, думаю, доберёшься, если по ночам будешь идти.
И Иван ушёл. Всю войну глодало его чувство неизгладимой вины, за то, что он остался жив, а ребята его, нет. И громил фашистов до самой Румынии. А после войны всё не мог собраться доехать до бабы Нюры, Анны, что спасла его.
И только спустя три года после войны узнал он, что дождалась она приезда штандартенфюрера, да и уложила его из двустволки мужа, как раз напротив дома своего сгоревшего, из-за оградки. Первым среагировал огнемётчик Ханс, тот самый, что церковь сжёг с расстрелянными, пока она пыталась ружьё перезарядить, полил её пламенем. Там и свалилась она у ограды баньки своей, всё пытаясь вставить упрямый патрон в ружьё. А потом произошло то, что заставило немцев опять о дьяволе заговорить. Какого чёрта понесло Ханса во двор, ведь дом-то уже и так сгорел, уже никто не узнает. Только от лежащей уже неподвижно женщины-кострища грохнул выстрел, и баллон Ханса превратился в шар огня, сжигая заживо его и троих его друзей-карателей.
Немцы выжгли всю деревню, и рассказать бы некому было о произошедшем, если бы Вера, местная учительница не схватила сразу своих учеников, кого смогла, и не скрыла в погребе, обвалившемся, на огороде своём, у самого леса. Несколько дней они сидели, как мыши, глодая проросшую картошку.
Похоронить, хотя бы останки в могилу положить, из всех жителей деревни Вере удалось только Анну, от остальных только пепел в сарае, где их сожгли, остался. Да и Анна спеклась вся, до последнего обнимая доску с обуглившейся краской, ту самую икону.
Глава 15. Дух света.
… и Дух Божий носился над водою (с).
Книга Бытия.
Душа не был чем-то вечным. Он был как воздух. Пока ты дуешь, он ощутим, как только движение затихает, его как бы и нет. Но и сказать, что он умирает, тоже нельзя. Ведь воздух никуда не исчезает. Но Дух Света, так звали Душу в этот раз, этого не знал. Каждый раз, когда движение призывало его вновь к жизни, он не помнил, что с ним было до покоя, не знал ничего, кроме Светоча Жизни, своего друга во всех своих ипостасях. Поэтому он всегда с интересом расспрашивал Светоча Жизни о том, откуда он взялся и почему Светоч знает так много обо всех бесконечных мирах, но при этом перемещаться может только за ним.
Светоч делился всей накопленной информацией, но никогда не раскрывал тайны о предыдущих воплощениях Души. Правда, чтобы не путать своих хозяев, а именно так, наверно, правильнее всего можно охарактеризовать распределение их ролей, Светоч жизни называл Душу каждый раз новым именем, обычно по выполняемой основной роли в конкретном цикле существования.
Нынешний Душа был прозван Дух Света. До этого у Светоча в хозяевах были и «Уходящий Один», это в тот раз, когда Светоч не смог последовать за Душой в одно труднопроходимое измерение, и «Вялотекущий», имя говорящее само за себя, и «Не поздоровавшийся», это когда Душа пришла в движение на столь короткое время, что они не успели даже познакомиться.
Хотя о чём это я – « Короткое время». Время тогда ещё не было ни коротким, ни долгим. Оно было низшим и статическим измерением. Иначе как бы можно было называть Душу «Уходящий Один», если, когда он ушёл, называть было бы уже некого, а до этого он вроде ещё и не ушёл.
Нам, существам трёхмерного мира, этого не понять.
И Cветоч не мог понять хозяина, когда тот летел над бесконечным зеркалом времени и в который уже раз спрашивал: «Как это – последнее измерение? Что-то же начинается, когда оно заканчивается».
–Там просто Ничто, огромное в себе и отсутствующее для окружающих. Раньше там обитали исполинские чёрные дыры, ненасытные, как червоточины, и беспощадные, как аномалии, и когда они пожрали друг друга, одна, самая огромная, попыталась пробиться в наши измерения через Время и остановила его своим первобытным холодом. Но Время, застывая, превратило в свою очередь, её в Ничто. И с тех пор время самое низшее измерение.
–Ага, вот видишь, значит, там всё-таки что-то было. Может я смогу увидеть это Ничто.
***
… И всё-таки он сделал это, упрямое вездесущее создание! Как он нашёл в безупречной бесконечной поверхности Времени этот изъян, Светоч не успел понять.
Первое, что увидел Душа Света, проникнув на ту сторону Времени, это, как что-то пытается вырваться, бьёт по оболочке пузыря, переливающегося чёрным зеркалом. Он прильнул, пытаясь разглядеть, кто там внутри, и увидел себя, он сам пытался указать себе на что-то за его спиной. Поворачиваясь, он чуть не лишился чувств, от головокружения, захватившего его. Вот он был снаружи и уже это он стучит изнутри пузыря, а снаружи, как бесконечно повторяющаяся в калейдоскопе картинка, пузыри, пузыри, пузыри, в которых он сам снова и снова, пытается указать тому другому себе, на что-то снаружи. А там, снаружи, бьётся, раскаляясь, Светоч жизни, не в силах пробиться к хозяину.
И вдруг Взрыв, ослепительно-белый взрыв. Или это было до того?
–Какая же она Чёрная, она сам свет в чистом своём проявлении? – подумал Душа, когда обжигающе-белое зарождение материи, основной формы этого измерения, уносило его мысль со скоростью света, подобно вибрации по струне, устремляясь в бесконечность.
***
Светоч и представить не мог, что всё может быть так плохо. Настолько плохо. Никогда, даже когда, казалось, хозяин замер навсегда, и он лежал как пёс, смотрящий, не мигая, на брошенную игрушку, боясь упустить момент, когда она вот-вот вдруг шевельнётся.
Когда этот упрямый Дух Света всё-таки провалился сквозь зеркало последнего измерения, всколыхнулись, казалось, все измерения. И затем Ничто стало поглощать Душу. Когда ничто не смогло поглотить его, произошёл взрыв, Большой взрыв. Вся материя, собранная в точку, вырвалась, разрывая всё на своём пути.
Я сказал, воздух никуда не исчезает? А Душа не умирает? Но ведь если даже не сам воздух, а всё имеющееся вещество распределить по всей вселенной равномерно, то вакуум поглотит, ассимилирует его. Хранитель духа расщеплялся на мириады мельчайших частичек и был раскидан на бесконечные просторы рождённого им мира, который со свирепостью выпущенного на волю дикого зверя разносил хозяина Светоча всё дальше и дальше.
Поняв, что ему не удержать Духа Света единым целым, Светоч принял единственно правильное решение. Он начал делить Душу, в надежде, что один из осколков уцелеет, сохранит в себе хотя бы частичку Души, но они всё сгорали и сгорали, а ему приходилось делить всё меньшее и меньшее, и делать это всё быстрее и быстрее. И вот осколки уже столь мелкие, что не вмещают в себе сознания Духа. Он, давший жизнь свету, сам погибал в его ослепительном пламени.
Раскалившийся добела Светоч, отдававший всю свою энергию в попытках спасти хозяина, наконец, поблёк и замер. Повинуясь закону самосохранения, он должен всплыть в высшие измерения, где бы он смог найти лёгкую энергию, но кто-то должен остаться приглядывать за хозяином. Что же делать? Время как застывшее было стекло, сначала покрылось мелкой рябью, разбиваясь на версии самого себя, а потом словно растрескалось и превратилось в то бесконечное сетчатое переливающееся поле, которое так восхитило Капитана, появившегося здесь в тот самый момент, когда, собрав последнюю волю, Светоч разделил свет и тьму.
–Ты кто? – спросил тёмный.
–Я, Капитан. Я – знание, кто есть кто, и что есть что, и что следует сделать! И каков путь.
–А я Навигатор. Я знаю, как и куда идти, и где, кого или что найти.
Это было последнее, что услышал, проваливаясь в высшие измерения за собственным спасением, Светоч.
Глава 16. Вера.
У детей нет ни прошлого, ни будущего (с).
Жан де Лабрюйер.
Вера, конечно, хорошее имя для девочки, но, пожалуй, ни в одной деревне не было столько Вер на единицу населения, сколько в её родной Тимофеевке. Вер и Тимофеев.
Детство в деревне. Некоторым оно может представиться беззаботным времяпрепровождением в экологически чистой среде, на природе, с огромными, ну, по крайней мере, в случае с Верой, просторами и красивейшими пейзажами. Но нет, Вера всегда вспоминала своё детство в деревне с чувством потерянного времени, когда дня не было, чтобы она не мечтала уехать и жить в городе, купаясь во благах цивилизации.
–И в кого ты такая? – часто с упрёком спрашивала мама. Верин нрав действительно резко контрастировал с традициями её семьи. Все они, много поколений по неведомой Вере традиции были привязаны к этой Тимофеевке. Вот, казалось бы, прадеда их с семьёй раскулачили в 30-х и сослали в Сибирь, куда-то у Кемерово. Там они впрочем, неплохо устроились даже. Ведь вопреки утвердившемуся мнению новой власти, не наворовали они своё «зажиточное» кулацкое хозяйство, а заработали тяжёлым трудом, упорством и сноровкой. Для деда, уехавшего с семьёй на подводе, запряжённой коровой, трёх лет от роду, по всем канонам этот посёлок с чудным названием, то ли Новый, то ли Верхний Берикуль, и должен был стать родиной. К тому же эта ссылка, как оказалось, спасла им жизнь. Когда Тимофеевку сожгли, они жили в относительном покое на новом месте. К тому времени они вели уже неплохое хозяйство, а богатая сибирская природа щедро снабжала их своими дарами в голодные для воюющей страны годы. Дед рассказывал маме, как спал на сундуке полном кедровых орехов, а мёд и рыба не переводились у них.
Когда прадед, воюя за Родину, получил от неё прощение за то, что в эпоху коллективизации имел неосторожность жить чуть богаче основной части крестьянства, семья получила право покинуть ссылку. И дед в начале 50-х не придумал ничего лучшего, как вернуться обратно в Тимофеевку, разграбленную и сожжённую во время войны. Деревня была отстроена заново, а поскольку их двор был раньше в самом центре, там построили администрацию, и ему ничего не осталось, кроме как занять участок своей тётки Анны. Муж и сын её погибли в самом начале войны, то ли от артобстрела, то ли от авиабомбы, а сама она даже подвиг совершила вроде как, расстреляв шедших по деревне карателей. Даже хотели ей памятник поставить, но потом памятник поставили военным, что высоту у деревни обороняли.
И что заставило деда остаться тут и с нуля начинать строить свою жизнь именно здесь, загадкой было для Веры, ну что стоило податься в город, раз уж так жизнь повернулась?
Она вот к своим ещё неполным тридцати считалась в своём окружении состоявшейся женщиной. Любящий муж, хорошая работа и у неё, и у мужа, уже выплаченные кредиты за квартиру и машину. Она всегда с готовностью соглашалась, когда ей говорили, какая она счастливая и как ей повезло. В душе же она знала, что всё это не пришло само, что именно её целеустремлённость и умение расставлять приоритеты стали прочным фундаментом тому чего она добилась. Она получала образование, когда все ринулись зарабатывать шальные деньги, катаясь челноками и осваивая рынки «диких 90-х». Они с мужем прошли голодные годы начала карьеры, когда будущее было таким неопределенным и туманным, но они жили завтрашним днём, отвергнув сиюминутные соблазны.
Зная нелюбовь жены к родной деревне Саша, её муж, немного удивился, когда она засобиралась в деревню к маме.
–Несколько дней? А как же клиника? Что-то случилось?
–Нет, ничего особенного, просто давно обещала маме, а у неё что-то со здоровьем последнее время проблемы. Съезжу, так сказать малую родину повидаю, заодно маму к специалистам свожу, потом у себя проконсультируюсь.
–Мне поехать с тобой? Что-то серьёзное? Могу взять пару дней отпуска, хотя сама знаешь, у нас вечный напряг с этим, обратно уеду, скорее всего, раньше.
–Да нет, не стоит, Саш. Тем более, может, заберу её потом сюда на консультацию, повидаетесь, а там, в деревне, тебе тоскливо будет в первый же вечер.
–Ну, ладно, как скажешь, – с видимым облегчением ответил он, – Но, если что звони. Я подскачу.
–Ага, спасибо. Приветы передам. Ты тут без меня не скучай. Хорошо?
За те несколько лет, что Вера не была у мамы, по большому счёту ничего не изменилось. Местные нувориши перестраивали дома, как им казалось на современный лад. Но Вера только подумала про себя: « Можно забрать человека из деревни, но деревню из человека никогда!» Ну, ещё отреставрированный храм радовал выбеленной новой оградой и благоустроенной дорогой к нему, с ровными газонами по сторонам, отчего пейзаж стал по-западному чистеньким и благоустроенным. С другой стороны он потерял какую-то исконно русскую уютность. Как-то роднее было бы видеть покосившуюся изгородь, с привязанной козой, жующей сочную траву по колено. Вера подумала: « Надо будет зайти потом, посмотреть. Мама писала, отреставрировали там всё по полной программе, теперь абы в чём не зайдёшь».
Мама встретила с радостью.
–Что же ты раньше не предупредила-то, дочка!? Я бы узнала, может, кто свинью закалывал, мяса бы свежего взяла к приезду. Себе-то я редко беру, на Новый год разве что.
–Мам, да не надо, я сама тебе колбаски хорошей привезла, да ещё гостинцев. В вашем сельпо такого нет. Да и я дня на три-четыре. Тебе давно обещала, да и мне отдохнуть. Только сразу мам пока не забыла, если вдруг Саша в разговоре спросит, скажи, что плохо тебе было, приболела.
–Да неужто он тебя к матери родной не отпустит, пока я помирать не соберусь?
–Мам, долго объяснять, но так легче будет. Не забивай голову.
–Ой, да ладно, ладно. Я в ваши дела не лезла никогда, как скажешь. Я так рада, ты приехала, наконец, отдыхай дочка, уставшая ты с дороги, прям совсем, как больная! Утро вечера-то мудренее.
***
Ночью её опять стошнило. Она даже испугалась, успел ли усвоится, принятый вечером, Мифегин. Хотелось бы дня за три закончить с этим. Девчонки, специалистки в клинике по этому профилю, сказали лекарство французское хорошее. Почти без побочек, но надо бы в клинике под наблюдением. Когда она сказала, что не хотела бы, чтобы муж догадался, они переглянулись, но сказали, тогда лучше бы чтобы его дома в этот период не было. Она и сама знала, что лучше бы, да как назло в частых, обычно, командировках, получился длительный перерыв. Только его невнимательность позволила ей скрыть от него утреннюю тошноту. Ну, программисты они ведь такие, возможно, пока она не наблевала бы ему на клавиатуру он бы и не заметил. Она просто стала заказывать суши, чтобы если что списать на их качество свои симптомы, а параллельно искать решение задачи – медицинское образование научило её подставлять нужные слова, чтобы завуалировать этику.
Но утром она столкнулась с ещё одним симптомом беременности – рассеянностью. Как она могла оставить таблетки на видном месте! Да и мама хороша, ну таблетки увидела, спросила бы её, от чего, зачем в аннотации-то было копаться.
–Да что же вы за люди такие, это же грех-то какой! Вам ведь пора уже ребёночка-то завести, ну по всем меркам пора. Оба при работе, всё есть. А если что, как от титьки только отучишь я бы к себе забрала. Это ж что вы удумали?! Это всё умник твой, этот твой Саша. Я всегда говорила он не от мира сего. Они городские все такие, ни бога, ни души! Это он тебя заставляет. Он детей не хочет.
–Нет, мама, не он. Всё сложнее. Тебе не понять.
–Не ври! Ведь ты не такая! Ты не убьёшь ведь дитя невинное, а он потом увидит, ребёночка-то, да и одумается, вот увидишь. Только на руки возьмёт…
–Нет, мам! Не увидит! Он хочет детей, вернее мы хотим. Но не получается. А это не от него – выпалила, словно орудийным залпом Вера.
Обе женщины не сговариваясь, опустились на скамью.
–Это… Это как так-то. Ты ж говорила, любишь его, вы что же, расходитесь? А этот, новый, он что сбежал, ну не хочет жениться, так ведь и ты не с родным отцом росла, может обустроится, как-то всё, а дочка?
–Люблю я его и не расходимся. Только вот командировки эти постоянные, да и дома всё дела допоздна. Он уехал на неделю, а мы отмечали с однокурсницами бывшими в баре. Сама не знаю, как получилось. Сейчас, мам, это нормально, просто стресс сняла.
–Так, а ребёнок-то причём? Ну, если вы не можете, так этого вырастите, он ему как родной будет.
–Мам, ну в баре-то с кем познакомишься!? Южные-то и на подъём полегче, два раза намекать не надо, да и погорячее. Хотя, по правде сказать, этот был просто дьявольски обольстителен, правда сбежал как-то чересчур поспешно, наверно торопился к своей единственной – лечь, как ни в чём не бывало к жене под бок. А потом там и без экспертизы будет видно, чей ребёнок, хорошо, если заговорит без акцента. У Сашки-то все блондины почти, да глаза серые. Нет мам не вариант, я ж тоже не зверь, думала.
***
Говорят, первое шевеление плода появляется уже на седьмой-восьмой неделе беременности, только вот мать начинает ощущать шевеления с двадцатой. Просто плод не касается матери до этого и она не чувствует движений. Однако Вере в церкви, когда она стояла по центру зала, глядя на роспись под потолком, показалось, что она почувствовала, как ребёнок её, которому уже не суждено родится, пошевелился, словно потянувшись ввысь к этой самой картине бога на облаке. Она даже вдруг начала думать, кем бы он мог стать. Может каким-нибудь артистом, или политиком. Она стряхнула с себя это наваждение, когда, также непостижимо, вдруг совершенно ясно почувствовала, что вот именно сейчас он умер.
* * *
– Не угадала, Кудесником он должен был стать, ну, по крайней мере, таков был божий план. Да, какая злая ирония судьбы! Прожить полноценную жизнь в одном времени, заново вернуться в этот мир для выполнения особой миссии и умереть не родившись! – сказал Навигатор.
–Да, даже и не верится, что это не твоих рук дело, порою люди совершают поступки, словно соревнуясь с тобой, Дьявол.
–Вот это, кстати, обидно. Все дети, умирая, становятся ангелами, он был под сенью Аккумулятора, так что технически его смерть идёт в твой актив. Я должен был быть на его стороне, бороться за его жизнь, но его мать действовала так разумно и решительно!
–Жаль, что, вопреки человеческим представлениям, у тебя на самом деле нет ада. Для подобных случаев я бы помог тебе создать в нём особое отделение.
* * *
Никогда они с мамой особо не ругались. Спорили, да. И в этот раз не было громких тонов. Когда сели они, по привычке скорее, а не по традиции, перед отъездом «на дорожку», мама сказала:
–Ты ведь знаешь, фашисты в войну выжгли всю нашу деревню. Я помню, мама моя рассказывала, как она сидела в землянке с учительницей их, тоже Верой, кстати. Ну, ты же знаешь, школу нашу потом её именем назвали. Она этих детей тогда спасла, как матерь человеческая. Немцы рыскали по всем окрестностям в поисках спрятавшихся, а от них словно Бог их отвёл. Пятеро детей со всей деревни выжили. Но деревню отстроили и мы выжили. А вот теперь мне действительно за вас страшно. Эти ваши «сначала квартира, машина, карьера, отпуска на курорты»… Скажи мне, от чего вы отдыхаете-то там? Что вы такого делаете, что так устаёте? Мы ведь и учились, и работали и детей успевали рожать, растить и воспитывать.
–Ой, мама. В том-то и дело, что вы рожали, растили, воспитывали, но не жили! Ну что ты видела? Деду такой шанс выпал, когда он клад нашёл! Ладно, в город не хватило ума перебраться, так хоть бы дом построил нормальный. Он и с ума-то сошёл наверно оттого, что жить в вашей деревне невозможно. Ты, стала матерью одиночкой. Хорошо повезло, ты отчима нашла. Так и он от этой вашей так называемой жизни до пятидесяти не дожил. Ты на себя посмотри, тебе сорок шесть, а ты выглядишь реально, как бабка! Не думала я что ты и мне такого желаешь. А мне ведь всего пришлось самой добиваться. Вы мне ничего не дали. Я даже, чтобы шмотки купить себе в медучилище пока училась, санитаркой подрабатывала. А мои ровесницы сразу в институтах учились, да им родители не гостинцы, картошку да сало в общагу посылали, а денег больше, чем я санитаркой получала, я знаю, мы практику вместе проходили.
–Береги вас бог, дочка. Кого он хочет погубить, того лишает разума. Только вот есть он ещё на Руси, бог-то? Похоже, отвернулся он от нас окончательно, раз вы у нас такие выросли.