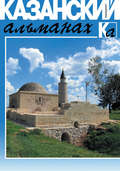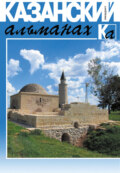Ахат Мушинский
Запах анисовых яблок
– Ой, совсем закрутилась-завертелась… – издалека, не доходя до меня, начинает извиняться кобылица. – Проходите. Что же вы в дверях?
Кабинет у неё небольшой, уютный, в зелени весь. Горшки с цветами и на подоконнике, и на специальных о трёх ногах подставках. На стене по ниточкам тянется вьюн.
Она что-то говорит, я что-то отвечаю, но войти в русло не могу, не отошёл от своих размышлений-завихрений, так, вякаю что-то. А у неё настроение приподнятое, подшучивает…
– Ну что, кто из нас раздеваться будет?
Я опоминаюсь, стягиваю рубаху, майку, опускаюсь на прохладную, белоснежную простыню, покрывающую жёсткий медицинский лежак. Меньше слов – больше дела, думаю.
Кобылица точно подслушала мои мысли, смолкает и принимается так молотить меня, что я готов взвыть. Это уже не «избиение младенца», а варфоломеевская ночь.
Когда её руки доходят до холки, я не выдерживаю:
– Нельзя ли поосторожней?
Вопрос остается без ответа.
Нет, у неё не руки, а отбойные молотки, не пальцы, а клещи. После моих слов она, кажется, колотит ещё неистовее.
– Вы убить меня решили? – интересуюсь я, когда массажистка, переведя дыхание, отходит к своему столику и что-то записывает. – Какой-то акт возмездия, честное слово, – бубню себе под нос.
– Это вы точно заметили, – роняет она, не отрываясь от своих бумажек.
– В чём же я провинился перед вами?
– А любой мужчина достоин возмездия. Если честно подумать… Любой…
– Если подумать… И тем более честно… то конечно, – вздыхаю. – Но теперь вот я и подняться не могу.
– А вы полежите немного. – Она берёт с батареи плед, накрывает меня. Плед мягкий, тёплый. – Через пять минут почувствуете себя годовалым жеребёнком.
– Прямо-таки годовалым? – Я ощущаю, как остатки живой крови, стронутые её руками, побежали по моим жилам и жизнь в моих глазах вновь обретает привычные, земные формы.
Она присаживается рядом на стульчик, колено на колено, берёт мою руку, слушает пульс.
Я лежу на спине, разглядываю её. Крупная, ладно скроенная акселератка. Вздёрнутый, капризный носик, под белой чёлкой тёмные брови. Таких породистыми называют. Впрочем, ведь крашеная. Дай бог, лет восемнадцать ей, хотя и кажется на вид значительно старше. Она поднимает глаза:
– Ну вот, а вы боялись…
У неё светло-карие чуть раскосые глаза. Я где-то видел их. Этот насмешливый, изучающий взгляд знаком мне.
– Чего бояться-то… – бурчу я, вспоминая глупую, детскую присказку: «…а ты боялась, а мы и юбку не помяли».
– А я недавно вас по телевизору слушала, – сообщает она радостно. – Вы стихи свои читали. Интересно, живьём вас или в записи пустили?
Ёлки-моталки, кто я в самом деле, поэт или стоптанный, разбитый башмак под коленваловской кроватью?
– Конечно, живьём!
– Я так и думала. В одном месте вы запнулись и рукой махнули… В записи-то такое подчистили бы.
Её рука забыта на моей, как нащупала пульс, так и осталась… Она ещё что-то тараторит, затем порывисто встаёт, раскрывает маленький холодильничек:
– А у меня сегодня день рождения!
– Странно, – бормочу я, сбитый с толку неожиданным поворотом дела, – почему же вы всё ещё здесь, а не дома среди гостей?
– Хочу, чтоб вы меня поздравили. Вот!
– Поздравляю, но… – Я скидываю плед, поднимаюсь, не могу попасть в вывернутый наизнанку рукав рубахи…
Она тем временем что-то достаёт из холодильника, оборачивается:
– Думаю, что разделите со мной… – не может подобрать она необходимых для момента слов и показывает смеющимися глазами на бутылку коньяка в руке.
– Но…
Она не слушает меня. На столе, как по мановению волшебной палочки, появляются рюмочки, тонко нарезанные и веером разложенные по тарелочкам буженина, колбаска, в вазочках конфеты, варенье… Только сейчас я замечаю аленький букетик роз в бутылке из-под кефира.
– Помогите же! – Она протягивает мне неподдающуюся бутылку и нож.
Я не могу отказать имениннице, расправляюсь с непослушной пробкой, возвращаю обезглавленный пузатый сосуд хозяйке.
– Мерси, – говорит она, и в высоких рюмках вспыхивают янтарные огоньки.
Это, наверное, и есть знаменитое вино из одуванчиков, прощальный привет ушедшего лета.
Золотые брызги дикого цветка окатили в мае весь наш сад – работать-то там некому, больной отец который год ни шагу дальше лавки у дома, мама… ей, бедной, и без дачи забот по горло, я же, балбес, наезжал туда лишь побалдеть – шашлычков завертеть с друзьями или в одиночестве стихи покропать.
А места у нас там великолепные. С одной стороны вековой хвойный лес, с другой – река как на ладони. Заляжешь в траве на самом краю косогора и слушаешь, как тишина поёт: гудят игрушечными бомбардировщиками шмели, трещат невидимые кузнечики. И всяческие мухи, мушки уж не бесшумны, уж и божьих коровок слышишь и даже трепет крыльев разноцветных бабочек, покачивающихся на волнах тёплого воздуха. И сквозь чистые поры твоей кожи проникает в тебя дыхание земли, лёгкий ветер, оставив облака, спускается с небес и тормошит волосы, и ты чувствуешь, что русло реки одним из рукавов проходит через тебя; что у соков земли и крови твоей одна кровеносная система; что и река эта, и в зелёно-густой дымке холмы на том берегу, и пронзительно-синее небо – всё это ты, всё, всё… Тебя как отдельного куска плоти в этом мире не существует.
Возьмёшь майский одуванчик стебельком в зубы – горько, как молодое, терпкое вино. Понюхаешь цветок, весь нос только и вымажешь в охре. Почему эти прекрасные золотые головки так быстро седеют и разлетаются по миру? Ясное дело – готовят новое золотое поколение. Жизнь прерывиста, но бесконечна…
– С днём рождения!
Вино из одуванчиков горячей волной разбегается по телу, трогает, обволакивает двухграммовый сгусток под ложечкой.
В рукав своей рубашки я попадаю лишь под утро.
Мороженое
Когда она, выглянув в дверь и сообщив, что фарватер для моего отбытия чист, поцеловала меня на прощание и сказала: «Всё было очень хорошо», я усомнился в сказанном и всю обратную дорогу до самой койки и потом до самого утра думал: что же хорошего? Да, конечно, я забылся с нею, но её лёгкие, по-детски ободряющие слова и тяжёлый, свинцовый рассвет за окном вернули меня на землю: чего же хорошего с горбатым калекой, полудохлым трупом, с еле-еле тёпленькой тенью того, кого она видела по телевизору? Рассвет дарил сравнения за сравнениями, по живому резал не хуже зеркала. Но ведь ночью было по-другому, я был прежний, молодой и здоровый, и всё казалось красивым. Что оторвало меня от земли? Массаж, спиртное, как всегда, до капельки осушенное, юная смазливая девчонка? Всё разом, всё вместе. Но она же, работник этой больницы, без пяти минут дипломированный специалист, знает мой диагноз, мою прогрессирующую болезнь и должна понимать…
Нет, ни черта она не понимает. До завтрака, перед уходом домой заглянула, поцеловала влажным ртом, напомнила:
– Сегодня во столько же.
Проводив её глазами, я сказал себе: «Хорошего помаленьку. Не пойду». Но к вечеру я не узнаю себя и в назначенный час вновь плетусь мимо ординаторской, мимо зеркала, у которого со скрипом расправляю плечи, по мере возможности, насколько позволяет мне моё заплечное хозяйство, распрямляюсь… На её этаже я иду уже вполне лёгкой, беззаботной походкой. А после массажа, после её вдохновенных, целебных рук за столиком с высокими рюмочками, наполненными янтарным огнём, рядом с юной соблазнительницей я уже не разбитый башмак, а тот, кого можно соблазнять. Тем не менее я спрашиваю:
– Тебя не смущает, что я не совсем нормально болен?
– Ты болен нормально, – шепчет она, не сводя с меня своих ореховых глаз.
– Ты не ответила на мой вопрос.
– Нисколечко.
– Что нисколечко?
– Не смущает.
– Странно.
– Ничего странного.
– Почему же?
– Потому что… – Она опускает голову и целится в меня взглядом сквозь заборик мелованной чёлки. – Потому что…
Вижу, у неё есть что сказать, но что-то сдерживает её.
– Почему же?
– Потому что потому… Потом скажу. Ладно? После… А теперь будем есть мороженое. – Она приглушённо смеётся и точно – достаёт из холодильника две вазочки с посыпанным шоколадом и слегка подтаявшим мороженым. – С коньячком, а?
– С коньячком, да-а, – соглашаюсь я. Коньяк тот же, вчерашний, девять чемпионских медалей украшают его грудь.
– У тебя что, целый ящик припасён? – Я хозяйничаю, всё чаще и чаще тянусь к бутылке, а хозяйка бутылки тянется ко мне.
– Я ревную, – шепчет она.
Я многозначительно оглядываюсь – нет ли поблизости ещё какой особы. Она в ответ пощёлкивает тонкими пальчиками, увенчанными перламутровыми коготками, по пузатому медалисту: вот к кому она ревнует. Я смеюсь, обнимаю её, тянущуюся ко мне… Мне хорошо, я годовалый жеребёнок, скачу безумно, высоко, и земля грешная где-то далеко-далеко внизу.
После, когда земная твердь начинает неотвратимо приближаться, я вновь припадаю к своему волшебному зем-зему и делаю несколько живительных глотков.
Полуголая новая моя мало застенчивая подруга, примолкнув, курит. Сигарета в её пальчиках, как шприц перед употреблением, устремлён в потолок. Но она не ответила на мой вопрос. Напоминаю…
– Почему тебя не смущает, что я…
– А-а, ты про это… – Она долго смотрит на серо-белый, похожий на мартовский снег, пепел сигареты: ни разу не стряхивала, хотя сугробик уже с полпальца.
Я не мешаю ей. Тарахтя, смолкает холодильник. Пепел падает в заранее приготовленный из газеты кулёк. Она запахивает наглухо халатик:
– Потому что я очень давно знаю тебя и очень давно люблю. Или любила… Не знаю…
– Когда ты это придумала, вчера или сегодня? – ядовито спрашиваю я, не отягощённый ни взаимным чувством, ни обязательствами.
– И не вчера, и не сегодня, – простодушно отвечает она. – Мы ведь жили с тобой в одном доме. Помнишь маленькую девочку в красном пальтишке и белой кроличьей шапке с длинными вислыми ушами? Я всегда здоровалась с тобой. И ты со мной… через раз. Однажды пришёл расстроенный чем-то. У нас тогда уже не жил, к своей матери пришёл. А дома никого. Присел на лавочке. Осень, холодно, а на тебе лёгкий синий плащ – он тебе, кстати, шёл очень, – и голова не прикрыта. Набралась я храбрости, подсела как ни в чём не бывало… И, о чудо, ваша светлость заговорила со мной. Ты сказал, думая о чём-то своём, что за осенью неминуема зима. Я ответила: а за зимой – весна и лето. Уверена в этом? – впервые посмотрел на меня ты с интересом. Абсолютно! – сказала я. Ты встряхнул влажными кудрями, точно отгоняя рой назойливых мыслей, улыбнулся и спросил, не хочу ли я мороженого.
– Мороженого?
– Не помнишь? Осень, лавочка у облетевшего палисадника, и тяжёлая, влажная пыль превращается на глазах в лёгкий белый снег… Да, да, ты обещал купить мне мороженое.
– И?
– И вот до сих пор жду.
– Почему же ты сразу не сказала? – тереблю я свою коротко остриженную голову.
– О чём?
– Обо всём.
Недокуренная сигарета гармошкой сплющивается и гаснет в бумажной пепельнице.
– Тогда б ты вчера не остался со мной, соплюшкой со второго этажа. И сегодня тоже… Верно? Я уж наверняка. Прости. Мне надо было поставить точку в этой затянувшейся истории.
– Или многоточие? – пытаюсь я пошутить, чтобы как-то разжижить этот жёсткий по своей прямоте разговор.
Она сжаливается, улыбается, берёт рюмочку:
– А ты меня и совсем маленькой помнишь, наверно, а?
– Помню.
– Какая я была?
– Смешная.
– А потом?
– А потом у тебя стали расти ноги, и ты начала включать громко музыку. Эту песенку крутила, как ещё, забыл?..
– «Вишенку». Любила её без ума. И на всю катушку запускала, чтобы ты слышал. Мне казалось это единственной возможностью передать тебе то, что я чувствую.
– Ты переехала оттуда?
– Два года назад.
– К мужу?
– Какая разница?
– Ты права – никакой. Я тоже беру рюмку.
– За ножку, за ножку, а то звенеть не будет.
Хрусталь звенит продолжительным малиновым звоном. Звон не прекращается и тогда, когда рюмки уже осушены, и когда вновь наполнены, и когда я возвращаюсь к себе в палату. Я залезаю под одеяло, накрываю голову подушкой… Безуспешно. С ума сойти можно от этого звона. Хожу из угла в угол. На окне решётка. Да что же это такое, в тюрьме я, что ли?
Дальнейшие события подёрнуты туманом. Густым, беспросветным, звенящим туманом. Как я в одной рубахе, в больничных, то и дело слетающих с ног шлёпанцах выскочил чуть свет на улицу, как поймал то ли такси, то ли попутку… Сюжет, одним словом, не нов. Картина называется «Полёт ласточки-2». И финал тот же, лишь во времени растянут. Несколько дней живу у родителей, у мамы, стало быть, затем неугомонный Грач, нашпиговав какими-то уколами, возвращает меня в камеру-одиночку.
Палата смеха
Сколько дней прошло, или месяцев, или лет? За окном белым-бело – глаза режет. Зима застелила свои владения одной бескрайней стерильно чистой простынёй. Меня готовят к выписке. Сегодня последний массаж. Массажистка, не то мужик, не то баба, косая сажень в плечах, жилистая, безмолвная глыба, ежедневно ломала меня вдоль и поперёк, но гиббус, как я понимаю, не кусок глины и плохо поддаётся лепке. Первой моей массажистки с той ночи я больше не видел. Или уволилась, или уволили, или она мне просто приснилась. Я дома у мамы спросил, помнит ли она курносую соседку со второго этажа, юную блондинку? «Как же, – ответила мама. – Если я плохо стала слышать, то исключительно из-за её громоподобного магнитофона. И не блондинка она вовсе. Крашеная. Года полтора назад замуж вышла за футболиста и уехала. Недавно с её матерью разговаривала: учится в медицинском институте и в больнице где-то подрабатывает, не то практику проходит…»
Значит, не приснилась.
Я хотел у лечащего врача спросить, где она. Но потом передумал: зачем?
Липкая паутина безразличия опутала меня с ног до головы.
В обед я машинально принимаю лекарства и без желания тащусь в столовую. Что-то хлебаю там, что-то жую, чем-то запиваю. Озираюсь. Вокруг такие же, как я, угрюмые люди, каждый наедине со своей болью, своим одиночеством. Что на свете может быть всеохватнее одиночества? И есть ли вообще что-нибудь, кроме него? И стихи в одиночестве пишутся, и смерть в одиночестве принимается, хоть какая, хоть в толпе, хоть с толпой, любая, всё равно в одиночестве, в глухом и круглом сиротстве. Сколько можно терпеть, на кой чёрт ждать то, что всё одно неминуемо придёт, наступит?! О возможности собственноручно решить этот вопрос, самому распорядиться, когда тебе выйти из этого бестолкового театра человеческой драмы и комедии, я задумывался не раз и не два. Я спрашивал себя: самоубийство – это сила или слабость? И всякий раз отвечал по-разному. Сказать «сила» – да, конечно, безусловно. Мы не властны устанавливать дату появления себя на свет божий, но определять сроки пребывания в сей юдоли грешной имеем право, не отдавая себя на растерзание неумолимого времени, унижающего достоинство человека старостью, дряхлостью, немощью, обезображивающего природой наделённую красоту, отнимающего по крохам всё то, что делает жизнь жизнью, – силу, любовь…
С другой стороны суицид – простой выход из любой проблемы. Именно выход, а не решение. И ещё вот: как, скажите на милость, уйти из жизни раньше своих родителей, давших тебе жизнь, раньше матери, вскормившей тебя грудью и мечтавшей у твоей детской кроватки, что ты вырастешь и станешь человеком, перечеркнуть смысл её жизни? Как по собственному желанию бросить на произвол судьбы своих малых деток, если они есть? А у меня есть. Есть дочь, которая думает, что меня нет. Но я-то знаю: когда-никогда для неё я всё равно буду. А чтобы быть, надо быть живым. Во что бы то ни стало. Легко сказать…
Сгущаются сумерки, сгущается одиночество.
Сумерки – время моей невесомости, когда и взлететь не можешь и на земле тебя ничто не удерживает, – никакого притяжения.
Мама будто знает об этом и навещает меня как раз в это невесомое время.
Но сегодня она пришла не одна. Я, боковым зрением увидев их, думаю: мама взяла ко мне с собой Лисичку. Грач говорил, что дочь его просилась ко мне, но слишком уж до больницы далеко… и зима, и уроки, и с братишкой кому-то оставаться надо. Несмотря на отсутствие всяческих желаний, известие о желании Лисички увидеть меня, помнится, заставило чему-то, ещё не выгоревшему дотла, шевельнуться в груди.
Но это была не Лисичка с мамой в дверях.
Это моя дочь.
Они похожи с Лисичкой. Обе беленькие, обе светлоглазые. Моя чуть постарше, чуток повыше и много тоньше. Совсем тростиночка. Перешагнула вот порог, стоит бледная, за бабушкину руку держится, блёклыми, стрельчатыми ресничками хлоп, хлоп…
Я протягиваю к ней руки. Она бросается ко мне в объятия:
– Папа!
– Дочура!
– Я сразу не поверила… Сразу, сразу! – Тростиночку мою трясёт – вот-вот переломится, она рыдает взахлёб. – Я знала: ты жив. Ты, папочка, не мог умереть, меня не предупредив. А потом тебя и по телевизору показали, стихи твои в журнале я видела. Маме не сказала. Зачем? Она же и так знает, что ты жив. Она только не знает, что и я знаю.
Буря стихла так же быстро, как и возникла. Только в мае так бывает и в детстве. Глаза у дочери зелёные, а были сначала, как родилась, голубые. Затем сереть стали. Затем… Удивительно.
– А мама в командировку уехала. За границу. В эту, как её, в Финляндию.
– С кем же ты осталась?
– С бабушкой.
– С бабушкой?
– Да, но она пьёт, и я убежала.
– Куда?
– К нашей бабушке.
– К нашей?
Я поднимаю глаза на маму. Она кивает:
– Да, да…
Дочь гладит ёжик моих коротко остриженных волос:
– Заболел, папа? – Бледное личико её заливается румянцем, бескровные губы становятся карминными. – А у тебя тепло.
– Замёрзла?
– Когда ехали, немного… – На ней белый больничный халат до пят, из-под которого торчат маленькие ножки в чешках. – И уютно. И даже телевизор есть!
– Включить?
– Там мультики сейчас должны быть.
Мы смотрим мультики, разговариваем, угощаемся бабушкиными гостинцами. Я не спускаю глаз с дочери. Обидно немного: пришла ко мне, а сама к телевизору прилипла. Мама тихонечко поясняет ситуацию с внучкой. В общем-то короткая пулемётная очередь дочери всё уже вкратце прояснила. У меня ни вопросов не возникло – с кем жена уехала (бывшая жена), ни удивления – как же она дочку одну оставила? Лишь чувство неожиданной горечи, не за себя, не за дочь, а – верите, нет? – за тёщу, мою добрую и, несмотря ни на что, любимую тёщу: неужели опять запила? Мама ни слова упрёка в её адрес. Она всё больше о перенапряжённом распорядке дня внучки и плохом её аппетите.
Бесконечный американский мультфильм с беспрестанными драками и руганью даёт возможность нам с мамой поговорить без оглядки на всёпонимающую дочь, которая у включённого телевизора ничего вокруг себя не видит и не слышит. Это у неё с пелёнок.
Мама сообщает, что заходил Земеля и занял у неё денег на дорогу домой.
– Я его, – говорит, – не узнала. Так изменился. Просто два разных человека – когда после армии с приветом добрым от тебя заезжал и теперь. Дёрганый какой-то. Что-то не то с ним. Женился он, кстати?
– Женился.
– А я ведь спрашивала у него. Не сказал. Дюжину пословиц о жёнах (всё больше о злых и неверных) вспомнил. Предложила пообедать с нами, отказался. Он ведь приходил к тебе сюда?
– Приходил, – вру я, не отводя глаз.
– Обещал перед отъездом ещё зайти.
– Нет, больше его не было.
Всему есть конец. Даже бесконечному американскому мультфильму. Мама отлучается – в хирургическом отделении у неё лежит какая-то знакомая.
Дочь подсаживается ко мне на кушетку.
– Папа, зачем ты так коротко подстригся? Вся перхоть теперь наружу. Прямо как снег. Ты чем голову моешь? – Она острым ноготком скоблит моё темя…
– Больно! – не выдерживаю я.
– Терпи, казак, атаманом будешь! – Она усердно и серьёзно творит своё гуманное дело, а ротик – шёлковые губки, сахарные зубки, – а ротик её малюсенький автономно и также деловито лопочет и лопочет:
– Англичанка у нас злая. На урок её опоздаешь – не пускает. Недавно двойку за сочинение вкатила. Две ошибки – двойка! Разве это справедливо? Даже усатый-полосатый говорит, что несправедливо. А мама ругается.
– Кто такой усатый-полосатый? – интересуюсь.
– Да к нам всё время приезжает. Мамин друг. У него машина красивая, иностранная.
– А почему – усатый-полосатый?
– Ну, усы у него под носом. И вся одежда всегда в полоску. Как клоун.
– Он что, живёт у вас?
– Не-е, я же сказала: приезжает. В гости. Привозит мне и маме подарки разные. И всегда – рыбу.
– Рыбак?
– Не-е, просто там где-то работает. Летом вот в лес с ним ездили, орехи собирали. И зимой, сказал, поедем… На лыжах кататься… Когда мама приедет…
Я разглядываю свою кровинушку, вполне самостоятельного, суверенного человечка.
– Как учишься?
– Учусь и учусь. Надоело. Скорей бы каникулы. Вон бабушке хорошо, на пенсии. И на работу ходить не надо, и двоек ей никто не ставит, каждый месяц почтальон домой деньги приносит. Папа, а когда тебя выпишут из больницы, ты вернёшься к нам домой?
– К кому – к вам?
– К нам с мамой.
– Я же умер, – замечаю я, дурашливо закатываю глаза и, раскинув руки, замертво плюхаюсь на кушетку.
– Папа! – строго, взрослым голосом прикрикивает на меня дочь, тянет за руку, сажает. – Сделай как я. – Она словно собирает в горсть паутину с лица и решительно сдувает её с ладони. Я повторяю за ней магический жест.
– Фью! – И смерть улетает от меня далеко-далеко… Мы весело гогочем.
Возвращается мама.
– Тише, черти, расшумелись! Вы же не в комнате смеха находитесь, в палате…
– В палате смеха! – не унимается дочка и внучка. Я тоже не унимаюсь, смеюсь и думаю, что здесь, в палате, нас не трое, а шестеро: дочка и внучка, отец и сын, бабушка и мама.