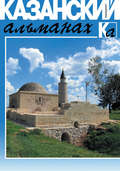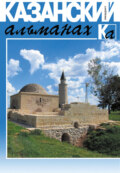Ахат Мушинский
Запах анисовых яблок
По всем правилам заваренный чай бесполезно стыл на столе. Сама же, в конце концов, время назначила, представительница точных наук…
Я бросил книгу, загулял по комнате из угла в угол. Какие необязательные люди эти женщины! Было бы что выпить, махнул б да завалился спать. Вышел на балкон. Мой зелёный холм потемнел, коровы с него давно убежали.
Не слышал я, как дверь открылась, но взметнувшаяся на сквозняке занавеска сразу вернула мне равновесие. Надо же, разволновался! Как мальчишка. Точно в первый раз… Это она впервые. И этот первый у неё – я. И никуда она не денется, пока сам того не захочу. Ещё и захочешь не развяжешься, поведись с девственницей… Однако развязываться пока не хотелось, вернее, завязывать (интересное слово «завязывать». Можно сказать: завязывать отношения, а можно: завязывать с ней, то есть рвать отношения). Размышляя так, я гоголем шагнул в комнату.
Она стояла на пороге, так же близоруко щурясь, в том же тёмно-синем учительском костюме, с сумочкой, повисшей на согнутой руке, и, оправдываясь, говорила:
– Стучу, стучу… Думала уж, дома никого…
На сей раз отпустил я её, когда уже захлопали утром двери первых «жаворонков», заскрипели половицы…
Последующие ночи были повторением предыдущей. Замечу существенное обстоятельство: дела свои мы с ней творили без помощи алкоголя.
Итак, днём мы принимали грязи, завтракали, обедали, я работал у себя, она участвовала в культмассовых мероприятиях, а ночью… А ночью мы познавали друг друга.
Конспирации нашей хватило на неделю. Затем всё перемешалось – день, ночь… ночь, день… Рукопись свою я забросил… Что это было со мной? Одно могу сказать точно: стабильность. Я перестал нервничать, шарахаться из настроения в настроение, я, знаете ли, стал добрее и внимательнее. Не к себе, как всегда, а к другим, к ней.
Я и предположить не мог, какое сердце бьётся под лацканом её пиджака. Но сперва, и более всего, меня удивили познания математички средней школы в литературе. Она наизусть читала то, что я, так сказать, профессионал, слышал впервые. Она отшучивалась:
– Знать стихи – что! Творить вот!..
Скажете: в постели литературой занимались? И занимались! А что?
Меня ещё поразило то, что в общении с нею я сильно разоткровенничался. Порой признавался в таких вещах, в которых себе-то не признавался. Обычно с женщинами словоохотливость моя била ключом лишь до постели, а тут… и до, и после, и во время…
Но главная невероятность заключалась в том, что я ей и в любви объяснился. Я никому не говорил, что люблю, если этого чувства у меня не было. Зачем врать? Были у меня свои принципы, были. Ну а с ней? Я подумал, если этих слов, ради которых человек, по сути дела, и на свет появляется, я не скажу ей, то кто скажет? Именно так я подумал, когда шепнул ей волшебное слово «люблю». В детстве мне внушали: волшебным словом является слово «пожалуйста», теперь-то я знаю – «люблю». Ни «пожалуйста» (одно из слов обыкновенного этикета), ни красота (пусть Достоевский и близок к истине), а Любовь, и только Любовь спасёт мир.
Ответных объяснений в любви я не дождался. Но зачем слова? И без слов всё было ясно. И не только мне, а и всем, всему санаторию. Мы были центром внимания, о нас судачили, нас разглядывали, на нас оглядывались, мы были гвоздём заезда, а может, и всего сезона. Но меня это мало волновало.
Меня волновало, почему же ей не сказать мне того, о чём говорили её глаза, руки, поступки?.. Ведь они не оставляли никаких сомнений. С другой стороны, я же прекрасно знал, зачем она ко мне пришла, с каким математическим расчётом. Это унижало и злило меня. Но и побуждало вести борьбу за достоинство, чтобы расчёт её, если он и был, перерос в человеческое чувство. А то бык-осеменитель я, и только.
Эта мысль навязчиво преследовала меня, и я изо всех сил старался, говоря попросту и откровенно, влюбить её в себя. Нормальные мужики хотят влюбить в себя женщин до постели, а я вот захотел после. Для меня не постель была важна, тут уж другая игра пошла, другие струны были задеты. И я из кожи вон лез, чтобы быть хорошим, великодушным, красивым, добрым, талантливым, честным, возвышенным, утончённым, мужественным, необыкновенным. И я таким, ей-богу, был.
Я сказал – честным. И точно. Я, например, рассказал ей о своих былых связях… Не обо всех, само собою разумеется, но о главных. Сперва и не хотел. К чему? Однако она так пододвинула меня к этому, что я и сам не помню, как выложил одну из моих историй. Она сказала, что ревнует меня к моему прошлому, к женщинам, которые ко мне прикасались. Ревнует? Ого, это уже то, что нужно… Ведь ревность – это почти любовь. Я рассказал ещё одну историю, самую свою сокровенную и драматичную, и получил вдруг такое сладкое душевное удовлетворение, позабыв при этом первоначальную цель своего рассказа. Мне стало легко, точно я святому исповедался, будто матери признался в какой-то своей страшной шалости. Непередаваемо… Надо было только незаметно и внимательно наблюдать, что я и делал. Сначала лицо её оставалось спокойным. Но на второй истории она занервничала, отвела взгляд в сторону, слушает, на меня не смотрит… Я уж о чём-то другом стал говорить, когда губы её детские дрогнули, задрожали, сломались, и она бросилась было прочь от меня, но я преградил ей дорогу.
На какой день это было, на какое утро? Она отстранилась от меня, дёрнула шторы в разные стороны, они разлетелись, и солнце изгнало из комнаты остатки предрассветных полутеней и полутёмных моих опытов.
Но ненадолго.
Когда она успокоилась, я подумал: не слишком ли быстро успокоилась? Решила задачу со всеми неизвестными? Узнала, какой я подлинный? Подлинный и подленький? Или просто не смог возбудить в ней полноценного чувства ревности? Значит – и любви? Значит, остаётся одно – расчёт?
Так я терзался с ней. С красавицами-то проще, всё у них снаружи, а эта… как мутное озеро посреди нашего города, в котором, говорят, ханская казна покоится, и никто не может до неё добраться. Глубина озера большая, толща ила с многоэтажный дом… Специальные экспедиции снаряжались, водолазы лазали – без толку. Так и я с ней. Продолжая сравнение с озером, накупался, наглотался, а главная, глубинная тайна её так и осталась тайной.
На мосту
Мы стояли с ней на стареньком мосту через безымянную речушку и следили, как за лугами садится на макушки деревьев далёкого леса по-крестьянски натруженное, красное солнце. В затоне неистово квакали лягушки, по большаку, незаметно приближаясь, пылила корова, погоняемая босоногим одуванчиком в вислом, с чужого плеча пиджаке. Это был последний наш с нею день в санатории.
– Скоро вернёмся… – сказала она. – Скоро вернёмся – каждый к своей жизни.
– Да-а…
– Ты выпустишь книжку. Шумный успех, поклонницы…
– Да-а…
– У тебя много поклонниц?
– Уйма.
– К которой ты в первую очередь-то?
– Там видно будет.
– Ты выпустишь книгу, а я выпущу в свет своих питомцев, школяров своих неугомонных, и возьмусь за новых, совсем ещё беспомощных, желторотых, возьму каждого за ручку… Ты помнишь свою первую классную руководительницу?
– Я всех их помню, но вот помнят ли они меня?
– Разве всех учеников упомнишь?
– Точно. Недавно встретил свою первую учительницу, – сказал я, отвернувшись от стремительно исчезавшего солнца.
Она не последовала моему примеру, продолжала следить, как дородное, расплывшееся солнце погружается в зыбкую серо-голубую дымку за лесом.
– И что?
– Я долго разъяснял, кто я такой. Думал, приятно будет, а ей всё равно. А ведь в любимчиках ходил. Как ни странно, помнит меня та, которая в школе терпеть меня не могла. Злющая была. Теперь ничего, мило здороваемся, беседуем.
– Вот и солнце зашло, – вздохнула она.
– На следующий год опять возьмёшь путёвку в какой-нибудь санаторий…
– Два года подряд не получится. Да если и возьму, всё равно… Тебя-то там не будет.
– Другого найдёшь, – пошутил было я, но она шутки не приняла. Не надо было мне так… Комплимента захотелось, ласкающих душу слов? Нет, признания, полновесного признания… «Тебя-то там не будет» – это, конечно, существенно. Но неужели нельзя без обиняков сказать то, что чувствуешь? И я спросил. Не помню точно как, какими словами, но она с полуфразы поняла, я и доспросить не успел.
– Не надо сейчас, – прикрыла она мне ладошкой рот.
– А когда?
– Потом.
– Когда потом? Когда разъедемся?
Это был последний наш с нею вечер, и моя досада была понятна. Я сказал укоризненно, что я ей в любви объяснился чуть ли не в первый же день… Она ответила:
– Это и обидело.
– Обидело? – меня точно ледяной водой окатили. – Ничего себе!..
– Да, обидело. Ты признался мне в том, чего в тебе не было. Я была удивлена. Такими словами разбрасываться… И, откровенно говоря, не поверила. Неужели ты посчитал меня такой глупышкой? Или…
– Или что?
Она не ответила. По скрипучему настилу моста застучала копытами усталая корова. Монотонно тенькало на её шее ботало. Было в том теньканье, в том смешанном запахе бескрайних лугов, навоза и парного молока что-то бесконечно длящееся, что-то вечное и незыблемое. Но не для нас с нею.
Глава вторая
Была весна
Как-то, не помню уж по какому поводу, заполнял я анкету, писал автобиографию и вот о чём подумал. Сколько за одну свою единственную жизнь человек автобиографий пишет! И всё в них, родимый, добросовестно укажет – когда в институт поступил, где оперился, на повышение двинулся… А вот когда ты впервые влюбился, когда затаив дыхание поцеловал свою избранницу, когда на земле этой наследник твой появился и впервые улыбнулся прелестным беззубым ртом – это, оказывается, не столь важно для человека, это фиксировать не надо, лишнее. Всё-то у нас с ног на голову, всё перевёрнуто, передёрнуто, не по-человечески. А ведь если здраво подумать, только то в жизни и важно, что приносит новую жизнь, только то и смысл имеет. Чего мудрствовать!
С бывшей женой моей я учился в одной группе. В этом чисто мужском по своему профилю учебном заведении девчат было почему-то не меньше нас, и они, вчерашние чебурашки, или, как мы их называли, – «промокашки», здесь вдруг как-то разом превратились в представительниц…
И среди них, представительниц, стало быть, прекрасной части человечества, моя будущая (читай: бывшая) жена была, скажу беспристрастно, наиболее заметной и привлекательной. Я думал, старшекурсница в нашу аудиторию зашла навестить младшую приятельницу, когда она, обдав «духами и туманами», прошла к своей подруге и присела к ней за стол около окна. Не стану описывать её внешность, скажу лишь: это была яркая блондинка, на которую несколько дней напролёт взирала, вывернув шеи, поочерёдно и скопом вся группа.
Я тоже разместился за последним столом, но у двери, через ряд от неё. Моё внимание тоже притягивала «камчатка» у окна. В ту сторону записки шли со всего света, в той стороне постоянно шептались и хихикали, там, в углу у окна, был центр Вселенной. Однако, помню, первое впечатление о ней было почему-то неблагоприятное. Насторожила, испугала броская красота её? Раскованность, свобода движений, слов, поступков, которые можно было принять за распущенность? Вполне возможно, вполне… Но вот прислала она мне записку: «Чего скучаешь?» – и…
(Я всё вспоминаю, как она подписала эту записку. Смешным именем каким-то… Но никак не вспомню.)
…И на неё перестали оглядываться, потому что, во-первых, попривыкли; во-вторых же, и в главных, её внимание застопорилось на моей персоне. Умел я напустить на себя этакого поэтического тумана. И внешность у меня была соответствующая, не Аполлон Бельведерский, но… Но мешков под глазами тогда ещё не было, и лицом я был побледнее. И сработало. Долго я хранил эту её первую записку. И все остальные хранил – записок мой старый портфельчик, в который у нас дома никто не заглядывал, в который совсем никто не заглядывал, включая и меня самого, заглянувшего потом лишь ради того, чтобы, не перечитывая, уничтожить их.
Сработало также то, что любовью ко мне воспылала и её подруга. А аукцион, как известно, очень хорошо подстёгивает. Раз, два, три… и безделушка превращается в драгоценность, реликвию, икону, во что угодно, но непременно дороже самоё себя во много раз. Вдобавок – откуда они это взяли?! – подругам взбрело в голову, что я чудесно играю на скрипке и по скромности талант свой скрываю. Воистину не кровь – фантазия влюблённые сердца питает.
Выбора мне делать не пришлось. Моя будущая (бывшая) жена заявила о своих правах на меня уверенно и властно, не оставив подруге никаких шансов. Её подруга стала автоматически и моей подругой. В компании были ещё два гвардейца, в одного из которых она (подруга) не замедлила после меня влюбиться. Мы настоятельно советовали «счастливчику» разуть глаза, плели всем миром сети и дружно подталкивали его в них: «какую Нефертити тебе ещё надо?!» Не получилось. Так, коммуной, и ходили впятером. С уроков в кино сбегали, организовывали коллективные пьянки – на языке преподавателей, в нашем же понимании – пикники, домашние дискотеки… Таким образом, жизнь группы МХ-ДРГ- 214 (надо же, не забыл!) вращалась вокруг нашей великолепной пятёрки, а жизнь пятёрки – вокруг меня с будущей (…) женой.
Это по анкете с будущей. На самом же деле мужем и женой мы были уже со второго семестра, с майской поездки на пароходике за город. И дату назову – с восьмого мая.
Помню, собралась ехать вся группа, но что-то расстроилось, и поехала лишь «пятёрка». У нас было с собой две палатки. В одной из них и состоялась наша первая брачная ночь. Как сухо я и скупо пишу, а ведь это была моя первая близость с женщиной, девушкой, девочкой. Это была будущая мать моей будущей дочери.
Девятого мая, значит. А до этого…
Куда она девается?
…была зима.
Кстати, забыл: учиться поступили мы после восьмилетки. И в том памятном мае было нам с ней всего лишь по пятнадцать годков от роду. Это уже после девятого числа нам стукнуло по 16 (майские мы с нею, по звёздному календарю – близнецы). Так что, достопочтенные папаши и мамаши, будьте бдительны со своими пятнадцатилетними малышами.
Итак, до весны, стало быть, была зима.
Впрочем, нет, не буду я описывать ту звёздную и пушистую зиму перед тем маем, не пойдёт губерния писать о том, как в стужу целовались мы в нелюдимом, утопшем в сугробах парке, как коченели ноги в полуботиночках и как иней искрился на её белоснежной чёлке (не поймёшь – то ли снег на лбу, то ли локоны её белокурые из-под шапки выбились), и как тепло было у неё дома – сидеть у урчащей печи с урчащим котом на коленях и будто бы делать уроки, и как сладко было после ночного перехода через околевший город засыпать в отчем доме с мыслью о новой встрече…
Всё это можно было бы описать, расписать, и я это собирался добросовестно сделать, но чувствую: надо скорее идти дальше, дальше, минуя умопомрачительную зиму, минуя откровенный май – май, ошарашивший меня невиданными мироощущениями. Да, природа перед неминуемыми муками обдаёт человека девятым валом безумного счастья. Но дальше, дальше… «О любви-с до брака всё известно, – любит повторять один мой знакомый штабс-капитан, – а вот после-с куда она девается? Или её после-с вообще богом не предусмотрено?»
Глупый и позорный
Одна моя глава – это один мой рабочий день за пишущей машинкой, с помощью которой я набираю скорость и держу её до самопроизвольной остановки. Одна глава – это одни мои рабочие сутки, в которых может быть и двадцать четыре часа, и час… Интересно, за сколько листо-часов, главо-суток я вновь проживу ту жизнь, которую я однажды уже прожил? Говорят, невозможно войти в одну и ту же реку дважды. А я вот пытаюсь. Мазохизм какой-то! Пытаюсь воскресить почившую в бозе жизнь. Как убийца к месту убийства, всё возвращаюсь к ней и возвращаюсь.
На втором курсе моя будущая законная (…) жена объявила мне, что собирается стать матерью. Нет, просто она не очень точно выразилась, употребив всем известный штамп, и не собиралась, и не хотела она стать матерью. Матерью в шестнадцать лет. Или ей тогда исполнилось бы шестнадцать?.. Какая разница – шестнадцать, только-только семнадцать?! Всё равно несовершеннолетство. Что скажут родители, что скажут в техникуме? «Допрыгались», – скажут мудрые педагоги-провидцы. Где и на какие шиши жить? Жить… если её мамаша не убьёт её, а меня – мой папаша. Нас обуял ужас. Я лишился сна. Я днём и ночью думал об одном и том же – что делать, что делать? Жизнь зашла в тупик так бездарно, бестолково… Ещё вчера были какие-то мечты, строились какие-то планы. Всё рушилось, я задыхался в петле, ловко намыленной на моей шее коварной старухой судьбой. Но и этого ей оказалось мало. Моя мама попала в больницу, предстояла сложная операция. Отец из-за каких-то конфликтов (это он умеет) с треском вылетел с работы. А тут ещё я подарочек готовил. Эгоист, высшей марки эгоист, я и в этой ситуации больше всего думал о себе. О родителях всё-таки тоже думал. О ней вот меньше всего. Нет, правильнее будет сказать: я думал о ней, переживал за неё больше всего, потому что от её благополучия, от её судьбы зависела вся моя жизнь, весь я со всеми своими телячьими потрохами. О родителях переживал, видать, по той же причине. Страшно глупое и позорное прошлое.
Она предпринимала отчаянные попытки вытравить из себя на удивление основательно заложенное нашей слепой, щенячьей любовью. Она старалась – ничего не получалось. Её виртуозно тонкая талия стала стремительно полнеть. Хитроумные пояса мало помогали. Замочки на юбочках расхотели застёгиваться, пошли в ход всевозможные блузки, кофточки навыпуск… И всё-таки наши ухищрения в какой-то мере помогли. Сенсация, грандиозная сплетня вспыхнуть не успела, любимая тётка моей будущей жены произвела подпольное вмешательство в беспрестанно растущее произведение нашей любви в обмен на моё обещание жениться. И крах, позор, кошмары были развеяны. Я смотрел на безжизненное тельце моего не успевшего родиться сына и ничего не чувствовал, кроме лёгкого шума в голове с нескольких стопок водки.
Потом мы вместе с моей будущей (бывшей) женой были на преддипломной практике, вместе писали-чертили дипломный проект, вместе не поехали по распределению в другой город, так как я собирался в армию, а моя невеста имела справку, что она моя невеста и мы вот-вот должны расписаться.
Моя армия
Тогда всё обошлось. И мама после операции поправилась, и отец восстановился на своей работе, и я, получив диплом специалиста-технаря, шумно и весело на папины деньги обженившись, а затем без сожаления обрившись под Котовского, отправился служить в армию.
С армией мне повезло. Не скрыв своих природных способностей в области изобразительного искусства, я попал в комендантский взвод, где в группе себе подобных был брошен на роспись казарм, стендов на плацу, стадионе и по всему военному городку.
Среди полковых живописцев я был не самый худший, но и не самый лучший. Было нас всего семеро. Один с художественным училищем за спиной. Другой – с высшим, правда, не художественным образованием, но с дьявольскими способностями. Третий, по отпущенным Творцом способностям, золотая середина, то бишь я. И ещё четверо – чистой воды шрифтовики.
Вот с двумя из них, из «первых», я и сблизился. Среди однообразной армейской массы эти двое были Человеки. Помните, как Наполеон приветствовал Гёте при встрече: «Вы человек!» Я сразу заприметил их, невидимый нимб избранности витал над ними. Учитель словесности, мой земляк (это который второй в семёрке), удивил меня крестьянской основательностью и несуетностью ума. Он знал, что делает на этом свете сейчас и что будет делать потом, он твёрдо стоял на своих по-моряцки расставленных ногах, точно волжский рыбарь-браконьер. Почему такое сравнение? Вероятно, потому, что и он, как браконьер на реке, вёл в нашей войсковой артели образ жизни независимый, вольный, не подчинённый армейским уставам, полковым правилам. Когда вздумается, в город ходил – за красками, в порт – за неповторимыми балтийскими закатами и вольными красавицами для своих живописных этюдов и литературных зарисовок – да, он собирался сесть за роман (ро-о-ман, говорил он с ударением на первом слоге). Другого бы за такие вольности на губе сгноили – ему сходило. Его из порта до части не конвой приводил, а сам комполка на своей изумрудной «волжанке» подкидывал. Стало быть, не я один разглядел нимб над его головой.
А на первый взгляд, ну что? Крупная, лобастая, как у дельфина, голова, широкий, точно беспрестанно улыбающийся, рот. А вот ростом не вышел, невысоконький, одним словом, не Давид… Но всё равно Земеля красив был. В нём пряталась внутренняя стальная пружина, которая, верил я, сжата до поры до времени.
Второго под нимбом (в «великолепной семёрке» первого) мы прозвали Бородой. Её, собственно, у него не было – в армии не положено. Однако каждый раз, когда брил свою щетину, он мечтал о том, какую бороду отпустит на гражданке. А брился он на дню дважды, так как к вечерней поверке у него отрастала такая сапожная щётка, что старшина не упускал случая употребить власть – прогнать небритого «партизана» за солдатским видом.
Я читал им свои вирши. Они были первыми, кто отнёсся к моим литературным потугам с вниманием. Как-то недавно армейская тетрадка вынырнула из залежей моих бумаг, полистал – чушь на постном масле! А ведь Земеля с Бородой хвалили. «…Обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Впрочем, думаю, обмана не было. В серой армейской жизни я со своими вдохновенными писульками был, наверное, лучиком, приветом из жизни, которую они не на так коротко оставили и к которой ещё не так скоро должны были вернуться. Поэтому они, на полгода раньше меня призванные на ратные подвиги, отнеслись ко мне как к равному, без свойственной их «годку» заносчивости. Заносчивость у них была, но другого рода. Они могли, особенно Земеля, командира роты на место поставить двумя-тремя словами, от которых рота потом неделю со смеху покатывалась, а конфликт превращался в бессмертный анекдот.
Первым художником среди нас был, повторяю, Борода. По его идее в части заложили музей, для создания которого в худгруппу, где уже трудился Земеля, Борода взял и меня. За работой, личными делами, неспешными разговорами коротали мы в мастерской, райском приюте на северной оконечности плаца, бесконечные армейские дни. У всех у нас была одна мечта – дембель. А там… Борода отпускал бороду и отправлялся босым по Руси храмы писать, Земеля – в родную деревню преподавать словесность и кропать роман, я же… В те наивные и чистые годы моего существования я тоже мечтал – о свободе, о воле, о совершенно иной, возвышенной жизни.
О Аллах, какое детство билось под гимнастёрками ефрейтора (это Борода) и двух рядовых (Земеля и я)! Ведь если по гамбургскому счёту, никто же из нас не прорвался. Борода – какая Русь, какие храмы?! – растворился где-то у себя в провинции. Земеля… Ограничусь пока одной фразой: романа он не написал. Я? Какой уж гамбургский счёт! Но слов о тех до святости чистых и пылких годах моей жизни в армии обратно не беру. Мечта прекрасна не только тогда, когда она сбывается.
Первым дембельнулся Земеля. Его голубой «поплавок» на груди сократил ему двухлетнюю службу на девять с небольшим месяцев, а должен был сократить по законам тех лет на год, но комполка всеми правдами и неправдами задержал своего любимчика. Было такое впечатление, что полковник без почти ежедневных бесед с моим земляком не мог наладить боевой дух вверенного ему подразделения. О чём они толковали? Земеля на вопросы наши отмахивался, посмеиваясь во всю ширь своего рыбьего рта: даю, мол, ценные стратегические указания. Отбывал он из части на командирской изумрудной «Волге». Я тоже прокатился. Проводил его до вокзала.
С Бородой простились мимоходом, не по-людски. Получив вольную, он убежал из части без оглядки. Но я не обиделся. Ведь он вместе с Земелей подал мне в трудную минуту руку, выхватил из двухлетнего мрака армейщины. Это они, Борода с Земелей, указали на светлую щель в сером, беспросветном заборе, подвели к ней, подтолкнули, и я, самый маленький и молодой из них, протолкнулся, протиснулся, что не даёт повода, скажу без ложной скромности, говорить о каких-то гамбургских счетах.
Преданность
Говоря об армии, я не сказал, для чего о ней, собственно, вспомнил, – ко мне туда приезжала моя жена. Вот. Два раза. Через всю страну.
Провожая меня в увольнение, кто завидовал, кто злословил (травить жениха в армии – большая доблесть), кто считал-пересчитывал свои армейские гроши, не в силах решить, то ли водки заказать в городе купить, то ли вина. Один лишь Земеля по-братски похлопал меня по плечу и благословил со словами: «Не всякая за тридевять земель к мужу отправится, зная, что он всё равно вернётся».
Мы устроились в гостинице. Это было лучшее наше с ней время, моей – силы, щедрости, доброты, её – красоты, нежности, веры в мою поэтическую силу, в меня как во что-то несомненно надёжное и на всю жизнь.
Стихами, надо сказать, за год службы я её завалил. В каждом конверте с треугольной печатью летели к ней мои пылкие рифмованные заверения в любви, в том, что заживём мы с ней душа в душу, как голубь с голубкой на потешных фотографиях, которые изготовлял армейский фотограф для ещё не остывших от поцелуев новобранцев, одну из которых и я от избытка остроумия в витиевато-лубочной форме подписал своей солдатке.
Второй её приезд был слаще первого. Он ожидаем был. И я уже не писал, чтобы она не приезжала, пощадила денег и меня, так как за встречей будет расставание, и последние дни до её приезда я еле пережил.
Я увидел её, ждущую меня в дверях КПП, и бросился со всех ног к ней через огромный, звонкий, с многоголосым эхом плац. Он был бесконечен. Я стучал сапогами по бетонке целую вечность. Я обнял её и расцеловал, не обращая внимания на дежурного офицера и его лыбящегося гололобого помощника.
И опять гостиница. Опять мы вместе…
Наутро какой-то ресторанчик, парк, старинный мрачный замок, где короновали прусских королей, река, одетая в гранит, с подъёмным мостом перед тем замком, мощёные улочки, могила великого философа, белые птицы на мандариновых черепицах серых домов…
Красавец аист, точно огромный планер, приземлился во дворе гостиницы, когда мы в последний день моего увольнения и её приезда заспешили с чемоданчиком на вокзал.
– Добрая примета, – сказала она лукаво улыбаясь.
Но бог нам тогда ребёнка не дал. Сначала она прислала письмо, что находится в положении. И я почему-то не очень обрадовался. А потом пришло письмо, что ребёнка пока у нас не будет. И я не очень огорчился. Будет ещё, куда спешить, думал.
Затем, когда я приехал домой, бог не дал нам ребёнка ещё раз… и ещё раз… и ещё…
Так началась наша расплата за легкомысленное избавление от первенца.
Измена
В неравной схватке с природой я не скоро, но смирился с мыслью, что у меня не будет детей. Но только не она. Она повела борьбу за «третье наше сердце» с таким упорством, с каким когда-то пыталась это наше третье сердце из себя вытравить.
Есть такое некрасивое слово «выкидыш». В детстве мы обзывались им. Кто знал, что я познаю все «прелести» этого слова в его первозданном значении. Выкидыш у жены следовал за выкидышем. Из каких только клиник я не привозил её домой, опустошённую и телом и душой. Я старался успокоить: ну, нет детей, ну и что, нам и без них хорошо. И вообще, в наше ли время детей рожать! Обрекать их на мучения, на жизнь эту гадкую и неминуемую в конце концов смерть. Родиться, чтобы умереть? Бессмыслица какая-то. Инквизиторство. Бессмертен тот, кто не родится.
Я понимал её положение и делал всё, чтобы она не сомневалась во мне, в моей верности, в судьбе с одним тяжёлым крестом на двоих. Было у меня что-то наподобие совести. И она это чувствовала. И старалась снова и снова… И снова, и снова наши затаённые надежды рушились. Но она упорствовала. И я, отговаривая на словах, на деле способствовал и втайне надеялся…
После очередной неудачной попытки выпал нам перерыв в наших стараниях. Года на два, что ли. И вот тогда-то она мне изменила. Успела. Со своим толстопузым начальником, который был старше нас с ней на десяток с лишним лет. Почему женщины слабы перед донжуанами в высоких креслах? Я часто задумывался. Наверное, это потому происходит, что женщины любят силу, власть над собой, которая (власть) у себя дома на энном году супружеской жизни бесследно испаряется. И вот ежедневное, многочасовое служебное подчинение женщины своему начальнику, естественным образом превосходящее краткое вечернее подчинение мужу, приводит к подчинению половому. И не важно, что сила, власть эта принадлежит не сидящему в кресле, а самому креслу. Кстати, на незамужних женщин высокие кресла действуют ещё неотразимее.
Однако причины, обстоятельства её измены мне теперь не так важны. И после измены я не изменил своего отношения к своим супружеским обязанностям. Не оставил её, бездетную, неверную.
Дорогие верные мужья, не возвращайтесь домой не вовремя. Я вот имел глупость. И поплатился…
Я застал их вдвоём как раз в момент выстругивания для моего чела прекрасных ветвистых рогов. Я долго звонил, стучал в запертую изнутри дверь. Жена моя, бедняжка, была так уверена – её муженёк ни за что в неурочный час не вернётся, что даже не приняла ни малейших мер предосторожности. Своими интимными делами они занимались в дальней комнате, спальне, где звонок плохо слышен, а услышав его, она, в халатике на голое тело, наивно распахнула дверь, полагая, что это дети балуются, или сантехник пришёл, или электрик, только не муж.
Я вошёл. Она сообщила мне стеснительно, таинственным каким-то полушёпотом, что дома не одна, что дома ещё гость – мною тогда уважаемый её начальник. Без задних мыслей я прошёл к нему. Он торопливо застёгивал свои мешковатые штаны. Руки большие, пуговички маленькие, непослушные… Культурно поздоровались. Затем он быстренько смылся, а я долго сидел на диване, уставившись в одну точку.
Нет, я её не бросил, хотя она и преподнесла моральное право на это. Не скотина же я с одной извилиной в мозгу, размышлял я, немного оправившись. Если б у нас были дети, то случившееся без них ни за что бы при них не случилось. С другой стороны, я просто не имел сил оставить её, уйти униженным, уступив какому-то проходимцу. Я должен был отыграться, восстановиться в её глазах, реставрировать любовь ко мне (и тут эгоизм), придать ей новые краски, вдохнуть новое тепло. Я любил её, в конце концов. Быть может, только тогда я и понял, как я её любил. Теперь кажется – и не любил, а сел за пишущую машинку, она мне и отпечатала ясно – любил. Она тоже многое поняла. Тот мерзавец-то, когда обстоятельства потребовали от него действий не исподтишка, а всерьёз, поступков потребовали, сразу и позорно ретировался. Маленьким оказался, несмотря на свои габариты, мелким. Одно дело подчинённой тебе девчушке лапши с три короба на уши навешать и совсем другое – остаться при своих словах, когда тем словам при всей их невыгодности надо ход дать; когда надо доказать, что ты мужик не только потому, что тебе папа Карло гвоздок под лобок приладил. Потом в своей жизни таких начальников я много видел. А вот другого типа только однажды. Тот, единственный, из-за своей любовницы добровольно поплатился служебной карьерой, положением в обществе. «Вот дурак!» – говорили про него. А я на него смотрел расширенными глазами.