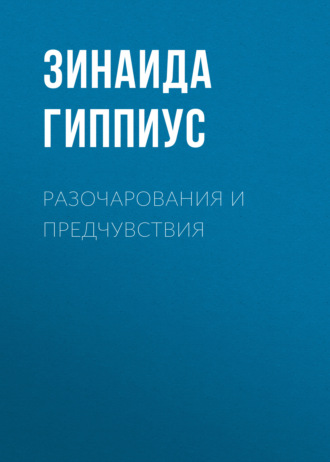
Зинаида Гиппиус
Разочарования и предчувствия
«Проклятия зверя», потрясание кулаками, угрозы мирозданью – в этом весь роман. Арцыбашев с последней натугой вызывает на бой мирозданье, а оно ничуть не вызывается. «Старушка три года на Москву сердилась, а Москва и не знала». Что ж поделаешь! Видно, ни арцыбашевскими, ни андреевскими средствами этот упрямый космос не проймешь. Напрасно и забираться «туда, ввысь, где безграничные пространства, вечный кристальный холод, миллиарды сверкающих светил и великая, могучая неподвижность вечности». Сам же видит, что она неподвижна. И не двинется. Это неслыханно, чтобы вечность вступала в сношение с недорослями. Пристают – только себя тешат.
Как образчик безграмотности, любопытно убеждение Арцыбашева, что люди «толкуются» о чем-нибудь, когда они о чем-нибудь толкуют. «Что вы все толкуетесь о самоубийстве?» Похоже на опечатку. Но это повторяется четыре раза. Какая уж опечатка!
Можно бы назвать еще немало книг с «вызовом»: это наш уличный лейтмотив. Но коснувшись учителей, – не оставить ли в покое учеников? Мне как-то душно стало среди толпы гимназистов, «толкующихся» о вечности. Хоть бы взглянуть в другую сторону.
Другой-то стороны, собственно, нет. Все нити у нас запутаны в один литературный клубок. Но можно, при усилии, надергать ниточек и более приятных.
Значительным явлением этого года была книга Андрея Белого «Серебряный голубь». О книге много писали, оценивали ее очень разносторонне, и сейчас я не буду касаться содержания; скажу только, что оно сложно и спорно, вряд ли ясно для самого автора, тем более что это лишь первая часть трилогии. Хочу отметить, главным образом, интересные перегибы стиля, его взлохмаченность, метанье, срывы и подъемы. Смешения очень неожиданные; иногда кажется, что есть подражательность, – Гоголю, например, но это не подражательность, а скорее какая-то стилизация чисто «русского» пафоса («О, Русь!..» и т. п.). Тут искренность и фальшь, восторг и предательство, простота и вычурность, народничество и интеллигентство, – в одном узле «правда с ложью сплетены». Очень легко все это целиком приписать самому характеру таланта Андрея Белого. Известно, что его творчество хаотично, запутанно, неумеренно. Однако в стиле «Серебряного голубя» (я все время говорю о стиле) есть, мне кажется, кроме индивидуальных метаний, уклон общий, поиски, предчувствие иного сочетания слов, нового цвета их. Стиль так называемый «декадентский» – хизнул; он совершил полный круг и, приблизившись к началу своему, опять коснулся «чудных глаз», «щемящей тоски», «роскошных форм» и «неведомых далей». Эти старые слова так слились с устаревшими, «декадентскими», что писатель вроде Арцыбашева, употребляет их наивно, не думая.
В «Серебряном голубе» много можно поставить на счет индивидуальности автора. Но не все. Потому что схожие метанья, схожие перегибы легко заметить и у других современных писателей, не у всех, по у некоторых. И каких отличных от Андрея Белого! Одни и те же предчувствия их волнуют, одинаково смутные и «несказанные», до того несказанные, что вот я даже о них говорить сейчас затрудняюсь.
В безобразности Ремизова, вернее, в безмерном обилии образов, нелепо и тяжко связанных, – чуется то же, еще полуслепое, исканье обновленной силы слов, удушье старыми. Или Ремизов опять только индивидуальность? Вот третий писатель с весьма слабой индивидуальностью и без всякого хаоса. Это Алексей Толстой. «Бездн» у него никаких нет, он, но существу, даже мелок (я не о таланте говорю, талантливость его неоспорна), но и он каким-то образом примыкает к уклонам Ремизова и Андрея Белого. Ремизов без сравнения значительнее, тяжелее, но и запутаннее; Ал. Толстой меньше, площе, но зато кристальнее, – и тем подчас приятнее; в узком смысле – произведения его художественнее ремизовских. Близкая гармония достижимее, а Ремизову, чтобы найти свою, нужно взрывать какие-то недра, он, пожалуй, до нее не доберется. И если совершенно не касаться содержания, а только стиля, известной окраски его, – то Алексей Толстой несомненно близок Алексею Ремизову.
Каждая вещь Ремизова – это великолепный, многоцветный и стройный узор, вышитый по канве, – но точно выдернули вдруг канву: все цело, все цвета, все тут; но вместо узора – лишь спутанный комок шерсти. Такова и последняя его вещь – «Крестовые сестры» (Альманах «Шиповник»). Нет узора, мешается драгоценная прелесть красок, а тяжкие поиски далекой, только предчувствуемой, гармонии давят на содержание.
Если упрощать, то ремизовская тема будет ясна: не богоборчество, но боговопросничество, даже богонедоуменность. Он не гимназист, и «вызовов» никому не делает. Он и вопрошает робко, скорее жалобится… Кому? В пространство. «Обвиноватить никого нельзя», повторяет он постоянно в своей последней повести.
И мил, и тяжек горько-спутанный узор его…
Что касается Алексея Толстого, то к сказанному о нем не много можно прибавить. Это «голая» талантливость, в которую ничто не вмешано: ни помогающее ей, ни мешающее. Это, скорее, инстинктивное творчество, и тот уклон стиля, о котором я говорил выше, – тоже инстинктивный. А. Толстому свойственна большая гармоничность: он пока еще неровен. «Сорочьи сказки», «Неделя в Туреневе», «Архип» очень выдержаны и порою пленительны. Но рядом – он пишет анекдот «Два друга», грубое «Сватовство» и нелепо «декадентит» в «Аггее». Если инстинкт устойчив, он, развиваясь, может дать и подобие содержания, и сделает произведения этого писателя гармоничными и цельными, приятно-художественными.







