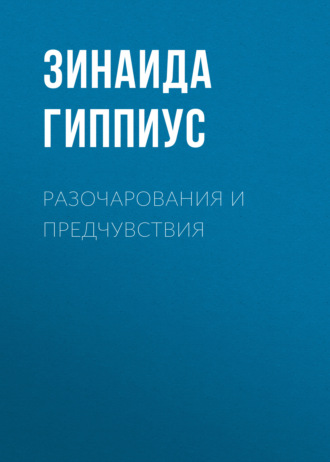
Зинаида Гиппиус
Разочарования и предчувствия
(Вот это не в бровь, а прямо в глаз. Автор и не подозревает, как он глубок и как ярко нарисовал «Океан».)
«…Хаггарт (очевидно, переодетый Лоренцо) пьет, но человек, который в ресторане требует водки, разве не кричит: „Хаос, приди на выручку!“»
(Довольно неожиданно? Но не для меня. Я этого именно и ожидал, об этом и говорю.)
«Берег и океан, человек и стихия, не „подлая человеческая жалость“, а борьба… победа…» – продолжает, захлебываясь, рецензент, попавший в сливки, – по далее мы за ним не пойдем. Не все ли он сказал, что нужно? И с какой наивной точностью, вплоть до гимназических фуражек. Какая прекрасная иллюстрация! И ученик не больше учителя… Л. Андреева я тут оставлю – надолго, если не навсегда. Да будут эти строки моим последним «прости». Когда он напишет следующее свое произведение, можно перепечатать любой из моих отзывов, этот или какой-нибудь прежний. Одинаково попадет в точку.
Но оставить гимназистов, вызывающих Космос на бой, к сожалению, еще нельзя. Это повсеместное вызывание въелось в нашу сегодняшнюю «литературу»; не хочешь, а наталкиваешься.
На нем построен и новый роман Арцыбашева. «У последней черты» (альм. «Земля», сб. IV). Роман уже конфискован, по, конечно, не за «вызывание Космоса», а за специфическое «Сапинство». Арцыбашев не снискал себе славы Андреева; его «Санин» имел громадный успех, но это дурно написанное и грубое произведение пленяло гимназистов двойственно: наполовину знаменитым «вызовом», а наполовину… любовной «смелостью». У Арцыбашева таланта, как данного, во всяком случае не меньше, чем у Андреева. Я помню его старый рассказ «Смерть Ланде». Еще в те времена он был написан, когда порабощающая мода стоять перед Космосом не явилась. «Смерть Ланде» – нужная, заботливо написанная вещь, и вся она – вопрос. Тот, правда, вопрос, который легко может перейти в «вызов» и немедленно превратиться в смехотворную безвкусицу. Арцыбашев не удержался, соскользнул сначала в «Санина», а затем в «Последнюю черту». Параллельно таяла и художественность. Язык, скверный, небрежный в «Санине», – в «Последней черте» дошел до банального безграмотства. Уклон к подражательности, чуть заметный в «Смерти Ланде» (Ланде слегка напоминает «Идиота»), превратился в беззастенчивое «скатывание» лиц, образов и мыслей. Новый роман Арцыбашева – это ряд гримас: Достоевского, Толстого, Чехова и… самого Арцыбашева в «Санине». «То скрипка слышится, то будто фортепьяно…», то визг пальца по стеклу.
В «Санине» Арцыбашев хотел, вероятно, показать, как должен жить и соединяться с женщинами самый гордый человек, носитель самого гордого вызова мирозданью (при мне один маленький студентик, вчерашний гимназист, приходил и спрашивал, «не жить ли ему по „Санину?“» Совсем решил Михайлов («Последняя черта») – тот же Санин, только он уже почти не рассуждает, а непрерывно «добывает» женщин, дрожа, что ему помешают в последнюю минуту. Тогда он «стонет, как зверь, у которого вырвали полузадушенную добычу». Отвратительно-холодные, и потому грязные, сцены этих половых соединений аккуратно чередуются со сценами смертей, написанных с тем же грязным холодом. Чтобы сказать, что это ужас, автор поступает просто: «Ужасом исказилось его лицо… выперли из орбит глаза, и он засмеялся. Смех был так ужасен, что женщины отскочили в ужасе». Это умирает старый профессор (толстовский Иван Ильич в подробностях болезни, до «судна» включительно, а во многих других подробностях – старый профессор из чеховской «Скучной истории». Повторение слова «ужас» придумал уже сам Арцыбашев). В коротких промежутках между обстоятельными соединениями и «ужасными» смертями – разные, тоже очень знакомые, лица проповедуют свои «новые» идеи. Наумов отличается от Кириллова («Бесы») только водяным и пошлым многословием. Он очень горд своим вызовом. «У меня есть идея!» – объявляет он. «Идея есть уничтожение рода человеческого…» «во имя бесполезных страданий». «Вся история земли сплошная кровавая река!.. Горе, страдания, болезни, тоска, злоба – все, что есть черного в фантазии человеческой, – вот жизнь людей… Людям пора понять, что это ужасно…» «Корчась в муках…» «Что это? Дикость, глупость или чей-то наглый обман?..»
Вывод – надо оказать «своеволие»… Гимназисты, окружавшие Наумова, при первом слове «идея» – всполохнулись, а после длиннейших рацей окончательно раскрыли рты. Новизна и сила идеи их потрясла. Что ж, ведь они Достоевского не читали, а только Бюхвера и Леонида Андреева.
«Наумов замолчал…» «Все молчали и как будто ждали чего-то». «Какая-то неясная тревога овладела всеми. Каждый прислушивался к голосам своей души и слышал там тот же мрачный, дикий голос. Тускло и темно представлялась жизнь. Угрюмо и тяжко…» и т. д. А один из недорослей даже заорал:
– Однако, напугали всех!..Черт возьми!..
Я нарочно не выписываю сплошь «ужасных» слов Наумова. Еще прочтет какой-нибудь гимназист, да потрясется. Корнет Краузе послушал-послушал Наумова, убедился – и застрелился.
В романе есть и Рогожин из «Идиота» – купец Арбузов, который любит смиренную девушку, «святую грешницу», то «хлеща ее плетью казацкой, то целуя ей ноги». Много-много знакомых, милых лиц, изуродованных почти кощунственно.







