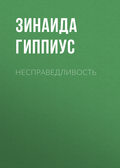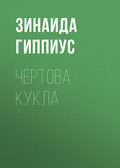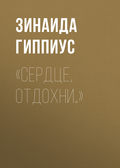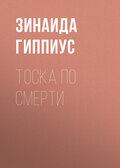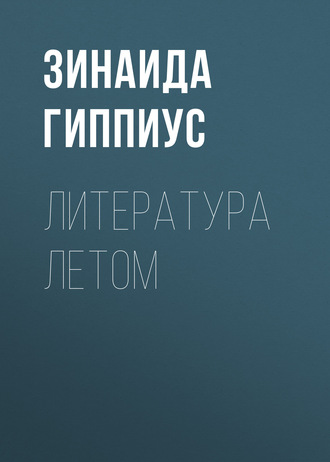
Зинаида Гиппиус
Литература летом
Таким же стилем пишет г. Муйжель и «народные» свои романы. Я этим не хочу сказать, что г. Муйжель совсем не знает среды, которую описывает, и мужики у него говорят языком студентов. Нет, может быть, ему и приходилось наблюдать «народную» жизнь, прислушиваться к народным речам; не язык, – именно «стиль» у него везде одинаков. И стиль этот таков, что вряд ли можно г. Муйжеля назвать писателем «народным».
Впрочем, что такое «народный» писатель? Тот ли, который пишет о народе? Или тот, кто сам «из народа»? Или, наконец, кто доступен народу? Разбирать эти, давно у нас спутавшиеся, слова и понятия было бы скучно; говоря со строгой точностью – нет и не может быть никакого «народного писателя». Есть писатели, есть литература, это одно. И есть «народное творчество», которое никак литературой назвать нельзя, ибо оно – совсем другое.
Вопрос об этом «народном творчестве» и отношении его к «литературе» – вопрос очень интересный. Особенно если не слишком раздвигать горизонты, а взять его в некоторой условной узости, в определенности времени.
О чем бы писатель ни писал, кто бы он сам ни был, но если работа его – действительно литература, – она дело интеллигентское, ибо она создается по принципу известного раскола, т. е. по принципу «утверждения личности», – индивидуализма. Литература иного принципа не имеет. Между «народным творчеством» и «литературой» совершенно такая же пропасть, как признанная, пресловутая «пропасть между народом и интеллигенцией». Не знаю только, почему существование «пропасти» приводит многих в отчаяние. На практике и в частностях разделения порою могут быть печальны. Но естественно же, что разделены два противоположных принципа, два, до времени, взаимоисключающих понятия, – коллективизм и индивидуализм. А кроме того, – и это очень важно, – под обеими пропастями (в сущности, одной и той же) есть подземные, невидные, ходы, есть постоянное, таинственное сообщение. Каким-то неизвестным, неисследимым образом «литература» наша зависит от «народного творчества» (так же, как «интеллигенция» зависит от «народа») – и обратно. Непосредственных влияний не заметно, их нет; а подземные сказываются, хоть не скоро, да верно.
Литература наша пока не падает; нет в ней Пушкиных, Достоевских, – зато есть кое-какие приобретения, есть развитие. Но не иссякает ли «народное творчество»? Иссякает, – вот как о «благодатных дарах церкви» сказано, что в каком-то там веке они вдруг начали иссякать?
«Коллективное» – народное – творчество прежде всего органично: оно растет из жизни прямо, как стебель из земли. В жизни народа должно что-то совершаться; пережить что-то надо, чтобы явился новый росток. Созданию всякой легенды предшествовало реальное переживание. Как тут ошибались некоторые наши религиозно-философские писатели, которые еще недавно с жаром толковали о необходимости новых «легенд», ожидая на этой основе создания… новой религии! Путь как раз обратный: на факте, религиозном чисто, или другом, на реальности только – основано всякое народное творчество.
Быть может, слишком кратки сроки, слишком близоруки глаза современников, быть может, нельзя утверждать со смелостью, что народное творчество «иссякает». Как бы то ни было, проявлений творческих в народе сейчас нет, и это-страшно; страшно думать, что ни последние события революционные, ни даже последняя война не переживались в народе глубоко. Иначе остался бы хоть какой-нибудь след…