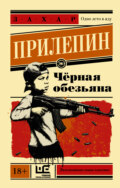Захар Прилепин
Обитель
“Дико! – подумал, зажмуриваясь, вспуганно и удивлённо. – Лежит человек, ничего не делает, и так… большую часть… жизни…”
В другом конце вспыхнула спичка – кто-то, не стерпев, захотел передавить хоть одно клопиное семейство при свете. Клопы даже ночью непрестанно ползли по стойкам нар, по стенам, падали откуда-то сверху…
Артём открыл на малый всполох спички глаза, увидел, как кто-то из второго взвода полез в чужой мешок. Встретился взглядом с вором, зажмурился, отвернулся, забыл навсегда.
Тут же разбудил утренний, пятичасовой колокол, и спустя несколько мгновений заоравший Афанасьев:
– Рота, подъём!
Сегодня Артём ненавидел Афанасьева; вчера кричал другой дневальный, гортанным голосом, – и ненависть была к нему.
Через минуту плохо различимый в противной полутьме Моисей Соломонович уже пел:
– Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушёл ваш китайчонок Ли?
Артём скосился на китайца, ночевавшего совсем рядом, но тот, похоже, не слышал слов песни: сидел на своём втором ярусе, гладил шею и лицо, словно под руками вновь обретал себя, своё тело и сознание.
– Ты, бля, оперетка, заткнись! – крикнул кто-то из ещё не поднявшихся с нар блатных.
Моисей Соломонович споткнулся на середине слова.
– Я же вроде бы негромко, – сказал он в никуда, разводя руками.
Молчал Моисей Соломонович, впрочем, недолго – вскоре снова еле слышно заурчал что-то – вносили пищу.
Можно было встать в очередь и ждать минут сорок, пока дойдёт до тебя – но Артём развивал в себе терпение, чтоб не тратить время впустую.
Пересев под лампочку, успел подшиться и полистать местный, в лагере выпускаемый самими же зэками журнал “Соловецкие острова” – Василий Петрович брал в библиотеке, видимо, для поддержания едкой неприязни к лагерной администрации на должном уровне. Артём в журнале читал чаще всего поэтическую страничку – надо сказать, весьма слабую, разве только Борис Ширяев, не без старания слагавший с чужих голосов, обращал на себя внимание. Освободился он или ещё нет?.. Журнальные стихи, какими б они ни были, Артём заучивал наизусть – и повторял их про себя иногда, сам не очень понимая зачем.
Только разобравшись со всеми этими делами, Артём встал в очередь: как раз оставалось несколько человек.
– Артём, вы не передумали? – поинтересовался Василий Петрович, возвращая ему вымытую ложку.
– Нет, не пойду, – ответил Артём с улыбкой, сразу поняв, что речь идёт о наряде. – Не хлопочите за меня, не стоит.
– Поставят вас на баланы, голубчик, и взвоете. Не вы первый. Одумайтесь, – строго сказал Василий Петрович. – Я пять дней подряд делал полторы нормы на ягодах – сегодня меня поставили старшим. Скоро на северо-восточном берегу пойдёт смородина и малина, имейте в виду. У них тут к тому же растёт замечательная ягода шикша – она же сика, очень полезная, судя по названию.
– Нет, – повторил Артём. – У меня с моей… шикшой всё в порядке.
– В лесу можно увидеть настоящего полевого шмеля – как у нас, в Тульской губернии, – совсем уж беспомощно прибавил Василий Петрович. – А крапиву в человеческий рост, помните, с вами встретили? А птицы? Там птицы поют!
– Там одна птица так стрекочет – словно затвор передёргивают, неприятно, – сказал Артём. – И комарья в лесу втрое больше. Не хочу.
– Вам ещё зиму предстоит пережить, – сказал Василий Петрович. – Вы ещё не знаете, что такое соловецкая зима!
– А вы и зимой собрались ягоды собирать? – посмеялся Артём, тут же укорив себя за некоторую дерзость, но Василий Петрович и вида не подал.
Моисей Соломонович даром что пел, а всё слышал. Нежданно оказался возле нар Василия Петровича и, прервав песню, спросил:
– Освобождается место в бригаде? Артём не хочет? И правильно – он юн, зол, крепок! Василий Петрович, я мог бы, пусть на время, заменить Артёма. Не смотрите на меня так неприязненно, вы даже не знаете, как я точно вижу ягоду в траве, у меня дар!
Василий Петрович только рукой махнул и пошёл по каким-то своим делам.
– Так мы договорились? – звал его Моисей Соломонович, ласково глядя вслед. – Я вас отблагодарю, у меня на днях ожидается посылка от мамочки.
Мамочкой Моисей Соломонович называл и жену, и саму мать, нескольких своих разной степени родства тёток и, кажется, кого-то ещё.
– А вас, Артём, ждёт замечательная водолечебница на Соловецком курорте, – сказал Моисей Соломонович, подмигнув большим, как яйцо, глазом. – Заезд на три года даёт гарантию крепкого здоровья на весь век. У вас ведь три?
Артём спрыгнул со своих нар и как-то так спросил “А у вас?” – что Моисей Соломонович сразу пропал.
– Остолоп, – сказал Артёму вдруг образовавшийся возле нар Крапин. – Сдохнешь.
Он имел такое обыкновение: нагрубить и потом ещё стоять с минуту, ждать, что ответят. Артём молчал, закусив губу и глядя мимо комвзода, думая два слова: “Проклятый кретин”. Артём боялся, что его ударят, и ещё больше боялся, что все увидят, как его ударили.
Моисей Соломонович вроде бы разбирался с вещами и перетряхивал свои кофты, но по спине было видно: он слушает изо всех сил, чем всё закончится.
Скомандовали построение на утреннюю поверку.
Строились в коридоре. На выходе сильно замешкались, с кем-то начали пререкаться, набычась лбами, чеченцы, всегда державшиеся вместе, Крапин, у которого в руке был дрын – палка для битья, – подогнал блатных, которых не любил особенно и злобно, а они ему отвечали затаённой ненавистью; досталось дрыном среди иных будто бы случайно Артёму, но Артём был уверен, что Крапин видел, кого бил, и ударил его нарочно.
– Больно? – пока строились, участливо спросил Василий Петрович, видя, как скривился Артём.
– Мама моя так шутила, когда мы с братом собирались к вечеру и просили ужинать: “А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам!” – вдруг вспомнил Артём, невесело ухмыляясь. – Знала бы…
Пока томился в строю, Крапин не шёл у него из головы. Глядя перед собой, он всё равно, до рези в глазу, различал слева, метрах в десяти, покатый красный лоб и приросшую мочку уха.
Артём никак не хотел стать причиной насупленного внимания и малопонятного раздражения комвзвода: жаловаться тут некому, управы не найдёшь – зато на тебя самого… управу найдут скоро.
С первого дня в лагере он знал одно: главное, чтоб тебя не отличали, не помнили и не видели все те, кому и не нужно видеть тебя, – а сейчас получилось ровно наоборот. Артём не пугался боли – его б не очень унизило, когда б ему попало как равному среди всех остальных; тошно, когда тебя зачем-то отметили.
“Дались этому кретину мои наряды, – с грустью и одновременной злобой думал Артём. – Я никакой работы не боюсь! Может, я в ударники хочу, чтоб мне срок уполовинили! Черники мне столько не собрать с этой, мать её, шикшой”.
Пока размышлял обо всём этом, не заметил, как дошла до него перекличка заключённых, и очнулся, только когда его толкнули локтем.
– Какое число? – в ужасе спросил Артём стоявшего рядом, то был китаец, и он, коверкая язык, повторил свой номер в строю – Артём вспомнил, что именно эта цифра только что звучала, и назвал следующую.
Поймал боковым зрением ещё один взбешённый взгляд Крапина.
“Что ж такое!” – выругался на себя, желая, как в детстве, заплакать, когда случалась такая же нелепая и назойливая череда неудач.
– Смирррно! Равнение на середину! – проорал ротный.
Ротным у них был грузин – то ли по прозвищу, то ли по фамилии Кучерава – невысокий, с глазами навыкате, с блестящими залысинами тип, твёрдо напоминавший Артёму беса. Как и все ротные в лагере, он был одет в темно-синий костюм с петлицами серого цвета и фуражку, которую носить не любил и часто снимал, тут же отирая грязным платком пот с головы.
– Здравствуй, двенадцатая рота! – гаркнул Кучерава, выпучивая бешеные глаза.
Артём, как учили, сосчитал до трёх и во всю глотку гаркнул:
– Здра! – хоть криком хотелось ему выделиться: но разве кто заметит твою ретивость в общем хоре?
Ротный доложил дежурному по лагерю о численном составе и отсутствии происшествий.
Чекист принял доклад и сразу ушёл.
– Отщепенцы, мазурики, филоны и негодяи! – с заметным акцентом обратился к строю ротный, который выглядел так, словно пил всю ночь и поспал час перед подъёмом; глаза его были красны, чем сходство с бесом усиливалось ещё сильнее. – Выношу повторное предупреждение: за игру в карты и за изготовление карт…
Дальше ротный, не стыдясь монастырских стен, дурно, к тому же путая падежи – не “…твою мать”, а отчего-то “…твоей матери”, – выругался. Потом долго молчал, вспоминая и, кажется, время от времени задрёмывая.
– И второе! – вспомнил, качнувшись. – В сентябре возобновит работу школа для заключённых лагеря. Школа имеет два отделения. Первое – по ликвидации полной безграмотности, второе – для малограмотных. Второе в свою очередь разделяется ещё на три части: для слабых, для средних, для относительно сильных. Кроме общей и математической грамоты будут учить… этим… естествознанию с географией… и ещё обществоведению.
Строй тихо посмеивался; кто-то поинтересовался, будут ли изучать на географии, как короче всего добраться из Соловков в Лондон, и научат ли, кстати, неграмотных английскому языку.
– Да, научат, – вдруг ответил ротный, услышав нечутким ухом разговоры в строю. – Будут специальные кружки по английскому, французскому и немецкому, а также литературный и натуралистический кружки, – с последними словами он едва справился, но смысл Артём уловил.
Рядом с Артёмом стоял колчаковский офицер Бурцев, всегда подтянутый, прилизанный, очень точный в делах и движениях – его небезуспешно выбритая щека брезгливо подрагивала, пока выступал Кучерава. Характерно, что помимо Бурцева во взводе был рязанский мужик и бывший красноармеец Авдей Сивцев, кстати, малограмотный.
Ротный, пока боролся со словами, сам несколько распросонился.
– Половина из вас читать и писать не умеет. – “А другая половина говорит на трёх языках”, – мрачно подумал Артём, косясь на Бурцева. – Вас всех лучше бы свести под размах! Но советская власть решила вас обучить, чтобы с вас был толк. Неграмотные учатся в обязательном порядке, остальные – по желанию. Желающие могут записываться уже сейчас, – ротный неровным движением вытер рот и махнул рукой, что в это нелёгкое для него утро обозначило команду “вольно!”.
– Запишемся в школу – от работы освобождать будут? – выкрикнул кто-то, когда строй уже смешался и загудел.
– Школа начинается после работы, – ответил ротный негромко, но все услышали.
Кто-то презрительно хохотнул.
– А вам вместо работы школу подавай, шакалы? – вдруг заорал ротный, и всем сразу расхотелось смеяться.
С нарядами разбирались тут же – за столиками сидели нарядчики, распределяли, кого куда.
Пока Артём ждал своей очереди, Крапин прошёл к одному из столов – у Артёма от вида взводного зазудело в спине, как раз там, куда досталось дрыном.
Зуд не обманул – на обратном пути Крапин бросил Артёму:
– Привыкай к новому месту жительства. Скоро насовсем туда.
Василий Петрович, стоящий впереди, обернулся и вопросительно посмотрел на Артёма – тот пожал плечами. Меж лопатками у него скатилась капля пота. Левое колено крупно и гадко дрожало.
Нарядчик спросил фамилию Артёма и, подмигнув в тусклом свете “летучей мыши”, сказал:
– На кладбище тебе.
Авдей Сивцев всё искал очередь, которая записывается в школу. Никакой очереди не было.
* * *
Работа оказалось не самой трудной, зря пугался.
А они даже обнялись с Василием Петровичем на прощанье – тот, как и собирался, опять отправился по ягоды, захватив на этот раз Моисея Соломоновича.
– Артём… – начал торжественно Василий Петрович, держа его за плечи.
– Ладно, ладно, – отмахнулся тот, чтоб не раскиснуть совсем. – Хотел бы наказать Крапин – отправил бы на глиномялку… Узнаем сейчас, что за кладбище. Может, меня в певчие определили.
В Соловецком монастыре оставался один действующий храм – святого Онуфрия, что стоял на погосте. С тех пор как лагерь возглавил Эйхманис, там вновь разрешили проводить службы и любой зэка, имевший “сведение” – постоянный пропуск на выход за пределы монастыря, – мог их посещать.
– Певчие в Онуфриевской – да! В церквах Советской России таких не сыскать, – сказал Василий Петрович, разулыбавшись. – Моисей Соломонович и туда просился, Артём. Но там целая очередь уже выстроилась из оперных артистов. Такие баритоны и басы, ох…
Артёма направили, конечно, не в певчие, а на снос старого кладбища в другой стороне острова.
С ним в бригаде были Авдей Сивцев, чеченец Хасаев, казак Лажечников, представлявшийся всегда по имени-отчеству: “Тимофей Степаныч” – что, к слову сказать, вполне шло к его курчавой бороде и мохнатым бровям: “У такой бороды с бровями отчество быть обязано”, – говорил Василий Петрович по этому поводу Артёму в своей тёплой, совсем не саркастической манере.
– Пошто кресты-то ломать? – спросил Сивцев конвойного, когда дошли.
Вообще говорить с конвойными запрещалось – но запрет сплошь и рядом нарушался.
– Скотный двор тут будет, – сказал конвойный хмуро; по виду было не понять, шутит или открывает правду.
– И так монастырь переделали в скотный двор, по кладбищам пошли теперя, – сказал мужик негромко.
Конвойный смолчал и, присев на лавочку возле крайней могилки, вытащил папироску из портсигара.
“Наверняка у какого-нибудь местного бедолаги забрал”, – мельком подумал Артём.
Винтовки при охраннике не было – конвой часто ходил без оружия; а на многих работах охраны не было вообще. Конвойных набирали из бывших, угодивших в лагерь чекистов – в основном, надо сказать, безусловной сволочи.
Говорили, что, если сложатся удобные обстоятельства – и, естественно, при наличии оружия, – конвойный может убить заключённого – за грубость или если приглянулась какая-то вещь, вроде этого портсигара, – а потом наврать что-нибудь про “чуть не убёг, товарищ командир”.
Но Артём сам таких случаев не видел, в разговоры особенно не верил, к тому же дорогих вещей у него при себе не было, а бежать он не собирался. Некуда бежать – вся жизнь впереди, её не обгонишь.
Появился десятник, по дороге отвлекшийся на ягоды; в руке держал один топор, а второй – под мышкой. Ещё издалека заорал, плюясь недожёванной ягодой:
– Что стоим? На всю работу – один день! Чтоб к вечеру не было тут ни кладбища, ни крестов… ни надгробий! Всё стаскиваем в одну кучу! Пока не сделаем работу – отбоя не будет! Хоть до утра тут ковыряйтесь! Спать будете в могилах, а не уйдёте!
– Скелеты тоже вынать наружу? – спросил Сивцев.
– Я из тебя скелет выну наружу! – ещё громче заорал десятник.
– Ну-ка за работу, трёханая ты лошадь! – нежданно гаркнул, вскочив с лавки, конвойный на Сивцева.
Тот шарахнулся, как от горячей головни, ухватился за подвернувшийся старый крест на могиле и повалился вместе с ним.
С этого и пошла работа.
“Кладбище так кладбище, – успокаивал себя Артём. – Дерево рубишь – оно хотя бы живое, а тут все умерли”.
Поначалу Артём считывал имена похороненных монахов, но через час память уже не справлялась. Зацепилась только одна дата – его рождения, но сто лет назад, в тот же день и тоже в мае. Дата смерти была – 1843-й, декабрь.
“Мало… – с усмешкой, то ли о покойном, то ли о себе, подумал Артём; и ещё подумал: – Что там у нас будет в 1943-м?”
Было солнечно; на солнце всегда вилось куда меньше гнуса.
Сначала Артём, потом чеченец, а следом Лажечников разделись по пояс. Один Сивцев так и остался в своей рубахе: как у большинства крестьян, шея его была выгоревшей, морщинистой, а видневшееся в вороте рубахи тело – белым.
Все понемногу вошли в раж: кресты выламывали с остервенением, если не поддавались – рубили, Сивцев ловко обходился со вверенным ему топором; ограды раскачивали и, если те не рушились, крушили и топтали. Надгробия сначала сносили в одно место и складывали бережно, будто они ещё могли пригодиться и покойные потом бы их заново разобрали по могилам, разыскав свои имена.
– Извиняйте, потревожим, – приговаривал казак Лажечников, читая имена, – …Елисей Савватьевич… Тихон Миронович… и вы извиняйте, Пантелемон Иваныч… – но потом запыхался, залился по́том, заткнулся. Через час всякий памятник уже раскурочивали без почтения и пощады, поднимали с кряком, тащили, хрипло матерясь, и бросали как упадёт.
Будто бы восторг святотатства отражался порой в лицах.
“Есть в том грех, нет? – снова рассеянно думал Артём, тяжело дыша и поминутно отирая лоб. – Когда бы я так лежал в земле – стало б мне обидно… что креста надо мной нет… а надгробный камень с моим именем… свален вперемешку… с остальными… далеко от могилы?”
Отвлёк от раздумий Сивцев – улучил минутку и, проходя мимо конвойного, сказал негромко:
– А про лошадь так нельзя, милок. На лошади весь крестьянский мир едет. Ты сам-то всю жизнь в городе, наверно? Родаки из фабричных?
– Чего? – не понял конвойный; Сивцев ушёл со своим обломанным деревянным крестом к общей куче, где их было под сотню, а то и больше.
– Ни мёртвым, ни живым… покоя большаки… не дают, – шептал мужик, которого молчание, похоже, томило больше всех.
Работу сделали неожиданно скоро – всех мёртвых победили на раз.
Кресты смотрелись жутковато: будто случилась большая драка меж костлявых инвалидов.
Запалил костёр с одной стороны десятник, не отказавший себе в удовольствии, а с другой – чеченец, который потом всё яростней и яростней суетился возле огня, поправляя торопливо занявшееся дерево и закидывая то, что осыпалось к ногам, в самый жар.
Огонь был высок, сух, прям.
– Они уж в раю все, – сказал Сивцев про кресты, успокаивая даже не Артёма, а скорее себя. – Мёртвым кресты не нужны, кресты нужны живым – а для живых тут родни нету. Мы безродные теперь.
Когда догорело, десятник скучно осмотрел место бывшего кладбища. Делать было нечего на этой некрасиво разрытой, будто обмелевшей – и обомлевшей земле. Разве что надгробные камни унести ещё дальше, побросать в воду или закопать – но такого приказа не поступало.
Артём вдруг болезненно почувствовал, что все мертвецы отныне и навек в земле – голые. Были прикрытые, а теперь – как дети без одеял в стылом доме.
“И что? – спросил себя. – Что с этим делать?”
Тряхнул головой и – забылся, забыл.
В кремль пошли засветло.
Чеченец внешне был привычно хмур, но внутренне чем-то будто бы возбуждён. Уже на подходе, когда сложенные из валунов монастырские стены начали доносить свой особый тяжёлый запах, вдруг твёрдо произнёс:
– Нам сказали б ломать своё кладбище – никто не тронул. Умер бы, а не тронул. А вы сломали.
– Врёшь, сука, – сразу скривил взбесившееся лицо побагровевший Лажечников.
– Сука это говорит, – ответил чеченец почти по слогам.
У Лажечникова так натянулась толстая, какая-то костяная жила на шее, что показалось: оборви её – и голова завалится набок. Он сделал шаг в сторону чеченца, заранее растопырив руки и раскрыв пальцы так, словно бы собирался чеченца пощекотать под бока, но конвойный крикнул: “Ну-ка!” – и толкнул Лажечникова в спину.
– В роте доскажем, – посулился чеченцу Лажечников.
Но минуту спустя не стерпел:
– Мы из терских. Когда вас, воров, давили – вы кладбища за собой не утаскивали, оставляли нам своих покойников, чтоб мы потоптали.
– Да, да, – согласился чеченец, и это его “да, да” прозвучало как вскрик какой-то крупной щетинистой птицы. – Вы так можете: сначала чужое кладбище потоптать, потом своё.
Лажечникова снова всего передёрнуло, он резко оглянулся, в напрасной надежде, что конвойный куда-то пропал – но нет, тот шёл, и лицо его было равнодушно.
– Ты, что ль, не слышишь, как тут христиан поносят? – спросил Лажечников в сердцах.
– Это ты у кого спросил про христиан? – коротко посмеялся чеченец, скосившись на конвойного. – Нету больше вашего Бога у вас – какой это Бог, раз в него такая вера!
– Чеченцы тоже христианами были раньше, давно… – вдруг сказал Артём, очарованный в детстве повестями Бестужева-Марлинского и с разлёта перечитавший тогда всё, что нашёл о Кавказе.
Хасаев посмотрел на Артёма так, как смотрят на нежданно влезшего в беседу старших ребёнка, и, смолчав, только подвигал челюстью.
Артём мысленно обругал себя: зачем влез, дурак.
“Ой, дурак, – повторял пока шли по монастырскому двору. – Ой, дурак, дурак, дурак, весь день дурак…”
Так часто повторял, что даже забыл, по какому поводу себя ругает.
В роте всем им выдали по пирожку с капустой за ударный труд.
– И не знаешь, что с им делать – прожевать или подавиться, – сказал Сивцев, хмурясь на пирожок, как если бы тот был живой; но всё-таки съел и собрал потом с колена крошки.
До ужина оставался ещё час, и Артём успел поспать, заметив, что в роте Лажечников и Хасаев как разошлись, так и не попытались договорить.
Лажечников перебирал своё изношенное тряпьё на нарах так внимательно и придирчиво, как, наверное, смотрел у себя на Тереке конскую упряжь или рыболовные снасти, а чеченец негромко перешёптывался со своими – издалека казалось, что они разговаривают даже не словами, а знаками, жестами, быстрыми оскалами рта.
* * *
Артёма растолкал Василий Петрович; тут же раздалось и пение Моисея Соломоновича про лесок да соловья – верно, навеял сбор ягод.
– Как я вам завидую, Артём, – такой крепкий сон, – говорил Василий Петрович, и голос у него был уютный, будто выплыл откуда-то из детства. – Даже непонятно, за что могли посадить молодого человека, спящего таким сном праведника в аду. Ужин, Артём, вставайте.
Артём открыл глаза и близко увидел улыбающееся лицо Василия Петровича и ещё ближе – его руку, которой он держался за край нар Артёма.
Поняв, что товарищ окончательно проснулся, Василий Петрович мигнул Артёму и присел к себе.
– Праведники, насколько я успел заметить, спят плохо, – нарочито медленно спускаясь с нар и одновременно потягивая мышцы, ответил Артём.
С аппетитом ужиная поганой пшёнкой, Артём размышлял о Василии Петровиче, одновременно слушая его, привычно говорливого.
Сначала Василий Петрович расспросил, что за наряд был на кладбище, покачал головой: “Совсем сбесились, совсем…”, – потом рассказал, что нашёл ягодные места и что Моисей Соломонович обманул – зрение на чернику у него отсутствовало напрочь; скорей всего, он вообще был подслеповат. “Ему надо бы по кооперативной части пойти…” – добавил Василий Петрович.
Артём вдруг понял, что казалось ему странным в Василии Петровиче. Да, умное, в чём-то даже сохранившее породу лицо, прищур, посадка головы, всегда чем-то озадаченный, разборчивый взгляд – но вместе с тем он имел сухие, цепкие руки, густо покрытые белым волосом – притом что сам Василий Петрович был едва седой.
Артём неосознанно запомнил эти руки, ещё когда собирали ягоды, – пальцы Василия Петровича обладали той странной уверенностью движений, что в некоторых случаях свойственна слепым – когда они наверняка знают, что́ вокруг.
“Руки словно бы другого человека”, – думал Артём, хлебной корочкой с копеечку величиной протирая миску. Хлеб выдавался сразу на неделю, у Артёма ещё было фунта два – он научился его беречь, чтоб хватало хотя бы до вечера субботы.
– Вы знаете, Артём, а когда я только сюда попал, условия были чуть иные, – рассказывал Василий Петрович. – До Эйхманиса здесь заправлял другой начальник лагеря, по фамилии Ногтев, – редкая, даже среди чекистов, рептилия. Каждый этап он встречал сам и лично при входе в монастырь убивал одного человека – из револьвера: бамс – и смеялся. Чаще всего священника или каэра выбирал. Чтоб все знали с первых шагов, что власть тут не советская, а соловецкая – это была частая его присказка. Эйхманис так не говорит, заметьте, и уж тем более не стреляет по новым этапам. Но что касается пайка – тогда ещё случались удивительные штуки. Когда северный фронт Белой армии бежал, они оставили тут большие запасы: сахар в кубиках, американское сало, какие-то невиданные консервы. Не скажу, что нас этим перекармливали, но иногда на стол кое-что перепадало. В тот год тут ещё жили политические – эсдэки, эсеры и прочие анархисты, разошедшиеся с большевиками в деталях, но согласные по сути, – так вот их кормили вообще как комиссарских детей. И они, кроме всего прочего, вовсе не работали. Зимой катались на коньках, летом качались в шезлонгах и спорили, спорили, спорили… Теперь, верно, рассказывают про своё страшное соловецкое прошлое – а они и Соловков-то не видели, Артём.
В котомке за спиной Василий Петрович принёс грибов, которые, видимо, собрался сушить, а в собственноручно и крепко сшитом мешочке на груди приберёг немного ягод. Присев, некоторое время раскачивал мешочком так, чтоб было заметно из-под нар. Вскоре появились две грязные руки, сложенные ковшом – туда и чмокнула смятая ягодная кашица. Ногти на руках были выдающиеся.
– А я ведь ни разу не видел его лица, – вдруг сказал Артём, кивнув на руки беспризорника, которые тут же исчезли.
– А пойдёмте на воздух, погуляем по монастырю, – предложил Василий Петрович, помолчав. – Сегодня у них театр – во дворе не настолько людно, как обычно. К тому же у меня есть одно преприятнейшее дельце.
Артём с удовольствием согласился.
Возле мраморной часовенки для водосвятия стояли две старинные пушки на лафетах. Артёму почему-то они часто снились, и это был пугающий, болезненный сон. Более того, Артём был отчего-то уверен, что впервые увидел этот сон с пушками ещё до Соловков.
Они дошли до сквера между Святительским и Благовещенским корпусами. Артём был не совсем сыт и не очень отоспался, но всё-таки поспал, всё-таки поел горячего, и оттого, по-юношески позёвывая, чувствовал себя почти довольным. Василий Петрович, всегда размышляющий о чём-то неслучайном и нужном, торопился чуть впереди – в своей даже летом неизменной кепке английского образца – похоже, стеснялся лысеющей головы.
Стоял пресветлый вечер, воздух был пышен, небо насыщенно и старательно раскрашено, но за этими тихими красками будто бы чувствовался купол, некая невидимая твердь.
“В такое небо можно как в колокол бить”, – сказал как-то Афанасьев.
С запада клоками подгоняло мрачную тучу, но она была ещё далека.
“Как за бороду в ад тащат эту тучу”, – подумал Артём, осмысленно подражая Афанасьеву, и про себя улыбнулся, что недурно получилось: может, стихи начать писать? Он – да, любил стихи, только никогда и никому об этом не говорил: а зачем?
В сквере стояли или прогуливались несколько православных священников, почти все были в старых латаных и перелатанных рясах, но без наперсных крестов; один – в красноармейском шлеме со споротой звездой: на подобные вещи давно никто не обращал внимания, каждый носил, что мог. Василий Петрович кивком обратил внимание Артёма, что отдельно на лавочке сидят ксендзы, сосредоточенные и чуть надменные.
– Как я заметил, вы замечательно скоро вписались в соловецкую жизнь, Артём, – говорил Василий Петрович. – Вас даже клопы как-то не особо заедают, – посмеялся он, но тут же продолжил серьёзно: – Лишних вопросов не задаёте. Разговариваете мало и по делу. Не грубы и не глупы. Здесь многие в первые же три месяца опускаются – либо становятся фитилями, либо идут в стукачи, либо попадают в услужение к блатным, и я даже не знаю, что хуже. Вы же, я наблюдаю, ничего особенного не предпринимая, миновали все эти угрозы, будто бы их и не было. Труд вам пока даётся – вы к нему приспособлены, что редкость для человека с умом и соображением. Ничего не принимаете близко к сердцу – и это тоже завидное качество. Вы очень живучи, как я погляжу. Вы задуманы на долгую жизнь. Не будете совершать ошибок – всё у вас сложится.
Артём внимательно посмотрел на Василия Петровича; ему было приятно всё это слышать, но в меру, в меру приятно. Тем более что Артём знал в себе дурацкие, злые, сложно объяснимые замашки, а Василий Петрович – ещё нет.
– Здесь много драк, склок, – продолжал тот, – вы же, как я заметил, со всеми вполне приветливы, а к вам все в должной мере равнодушны.
– Не все, – сказал Артём.
– Ну да, ну да, Крапин. Но, может, это случайность?
Артём пожал плечами, думая про то, как всё странно, если не сказать диковато: извлечённый из своей жизни, как из утробы, он попал на остров – если тут не край света, то край страны точно, – его охраняет конвой, если он поведёт себя как-то не так – его могут убить, – и вместе с тем он гуляет в сквере и разговаривает в той тональности, как если бы ему предстояло сейчас вернуться домой, к матери.
– На моей памяти он никому особенно не навредил, – продолжал Василий Петрович про Крапина. – Вот если с ротным у вас пойдёт всё не так – тогда беда, беда! Кучерава – ящер. Впрочем, вас обязательно переведут куда-нибудь в роту полегче, в канцелярию… будет у вас своя келья – в гости меня тогда позовёте, чаю попить.
– Василий Петрович, – поинтересовался Артём, – а что же вы до сих пор не сделали ничего, чтоб перебраться подальше от общих работ? Это ж, как вы говорите, главный закон для любого сидельца, собирающегося пережить Соловки, – а сами? Вы ж наверняка много чего умеете, кроме ягод.
Василий Петрович быстро посмотрел на Артёма и, убрав руки за спину, ответил:
– Артём, да я здесь как-то прижился уже. Зачем мне другая рота, моя рота – это лес. Вот вам маленькая наука: всегда старайтесь выбрать работу, куда берут меньше людей. Она проще. Тем более что у меня вторая категория – деревья валить не пошлют. Так что куда мне торопиться, досижу своё так. Я в детстве бывал капризен – здесь отличное место, чтоб смириться.
Звучало не совсем убедительно, но Артём, иронично глянув раз и ещё раз на Василия Петровича, ничего не сказал, благо что тот быстро перевёл разговор на иную тему:
– Обратите внимание, например, на этих собеседников. Знаете, кто это? Замечательные люди – на улицах Москвы и Петрограда вы таких запросто не встретите. Только на Соловках! Слева, значит, Сергей Львович Брусилов – племянник генерала Брусилова, того самого, что едва не выиграл Вторую Отечественную войну, а потом отказался драться против большевиков. Сергей Львович, если меня не ввели в заблуждение, капитан Балтийского флота – то есть был им. Но и здесь тоже имеет некоторое отношение к местной флотилии, соловецкой. Беседует он с господином Виоляром… Виоляр – ещё более редкая птица: он мексиканский консул в Египте.
– Заблудился по дороге из Америки в Африку и попал на Соловки?
– Примерно так! Причём заблудился, завернув в Тифлис, – улыбнулся Василий Петрович. – У него жена – русская, а точнее, грузинка. Если совсем точно – грузинская княжна, восхитительная красавица, только немного тонковата, на мой вкус…
– Откуда вы знаете? – с неожиданным любопытством поинтересовался Артём.
– Слушайте, Артём! – Василий Петрович мягко поднял свою седую руку, будто бы останавливая собеседника в его поспешности. – Не так давно господин Виоляр решил заехать на родину своей жены, погостить, отведать грузинской кухни и прочее. Вместо этого он был арестован тифлисским ГПУ и препровождён сюда. Надо бы у нашего ротного поинтересоваться, в чём там дело, но я стараюсь лишний раз с нашим Кучеравой не сталкиваться.