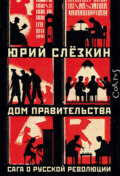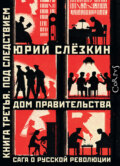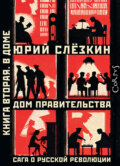Юрий Слёзкин
Эра Меркурия. Евреи в современном мире
Глава 2
Нос Свана
Евреи и другие европейцы
Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. “Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе”.
Н. В. Гоголь. Нос
Евреи эпохи диаспоры были инаданами Европы, армянами Севера, парсами христианского мира. Они были образцовыми, непревзойденными меркурианцами, поскольку занимались кочевым посредничеством в течение долгого времени и на обширных территориях; создали развернутое идеологическое оправдание меркурианского образа жизни и его окончательного преодоления; и владели полным набором традиционно посреднических профессий, от торговли вразнос и кузнечной работы до врачевания и финансов. Они были внутренними чужаками на все случаи жизни, последовательными антиподами всего аполлонийского и дионисийского, опытными поставщиками “хитроумия” в великом разнообразии форм и во всех слоях общества.
Но они не просто блестяще делали свое дело. Они стали исключением среди меркурианцев, поскольку в христианской Европе их чуждость была системной. Бог, праотцы и священные книги местных аполлонийцев по большей части еврейские, а величайшее еврейское преступление – и главное объяснение их меркурианской бесприютности – состоит в том, что верные иудаизму евреи отвергли еврейского отступника от еврейской веры. Такой симбиоз не уникален (в некоторых частях Азии вся письменность и ученость имеют, как и кочевое посредничество, китайское происхождение), но вряд ли какое-либо племя изгнанников чувствовало себя в большей мере дома, чем евреи в Европе. Христианский мир начался с евреев и не мог без них закончиться.
Но главная причина превращения евреев в наистраннейших иностранцев заключается в том, что они занимались своим ремеслом на континенте, который стал всемирным центром меркурианства и преобразил большую часть человечества по своему образу и подобию. В век кочевого посредничества евреи стали избранным народом потому, что стали образцом “современности”.
А это означает, что все больше и больше аполлонийцев, сначала в Европе, а потом повсеместно, должны были стать похожими на евреев: подвижными, грамотными и быстрыми умом горожанами, гибкими в выборе занятий и внимательными к чужакам-клиентам (и потому борцами с нечистоплотностью, мужественностью и всеядностью). Новый рынок отличался от старого тем, что был анонимным и безродным: обмен происходил между чужаками, и все пытались, с разным успехом, играть в евреев. Наиболее успешными в этом отношении были протестанты Макса Вебера, открывшие чопорно безрадостный и морально безукоризненный способ быть евреями. Вдруг выяснилось, что можно сохранить добродетель, занимаясь “ростовщичеством” и покупая престиж за деньги, – в противоположность превращению богатства в социальный статус посредством щедрости, хищничества или обжорства. В то же время закат профессионального духовенства и божественных чудес заставил соискателей спасения обращаться к Богу непосредственно, читая книги, и добиваться праведности формально, выполняя правила. Церкви стали походить на синагоги (“школы”); специалисты по добродетели стали походить на учителей (раввинов); и каждый верующий превратился в монаха или священника (т. е. стал походить на еврея). Молитва Моисея – “О, если бы все в народе Господнем были пророками” (Числа 11:29) – была услышана.
Новый – современный – мир основывался на бесконечной погоне за богатством и ученостью, причем обе карьеры были открыты для талантов, как в гетто или местечке, а наиболее талантливые избирали традиционно меркурианские профессии: предпринимательство, медицину, юриспруденцию, науку и журналистику. Постепенное испарение “души” привело к культу чистоты тела, в результате чего диета снова стала ключом к спасению, а врачи начали соперничать со священнослужителями в качестве специалистов по бессмертию. Замена священных клятв и заветов письменными контрактами и конституциями превратила юристов в незаменимых хранителей и толкователей нового экономического, общественного и политического уклада. Увядание отцовской мудрости и аполлонийского достоинства (величайшего врага любознательности) возвысило былых вестников и глашатаев до положения всесильных оракулов истины и памяти (“четвертое” и “пятое” сословия). А натурализация вселенной сделала из каждого ученого потенциального Прометея.
Даже отказ от погони за богатством или ученостью вдохновлялся меркурианством. Удачно названная “богема” обжила периферию нового рынка, освоив новые формы попрошайничества и прорицательства, а также новые и более или менее неблагонадежные песни и пляски. Всецело зависимые от общества, полноправными членами которого они не являлись, богемные нонконформисты зарабатывали на жизнь, эпатируя своих покровителей на манер традиционных поставщиков опасных, нечистых и сверхъестественных услуг. Условиями членства являлись кочевое посредничество, нарочитое пренебрежение социальными условностями, чувство морального превосходства над принимающим обществом и отказ от унаследованных родственных обязательств. Для того чтобы высмеивать, подрывать и оправдывать общество евреев и протестантов, нужно было стать цыганом.
“Евреи и протестанты” – метафора тем более уместная, что в современной экономике существует два пути к успеху. Зомбарт связал капитализм с еврейством при помощи гипербол (и в конечном счете ценой компрометации главного аргумента); Вебер установил исключительную связь между протестантской этикой и духом капитализма, подчеркивая историческую обусловленность (и игнорируя, таким образом, современную еврейскую экономику); а ученые, озадаченные азиатскими “экономическими чудесами”, вынуждены были либо переосмыслить протестантскую этику, либо определить специфически азиатский, “семейственный” путь к капитализму[61]. На самом деле Европа с самого начала шла по обоим путям – семейственному и индивидуалистическому. В то время как евреи опирались на опыт сплоченного племени профессиональных чужаков, разного рода протестанты и их подражатели строили город на холме, привнося экономический расчет в жизнь нравственного сообщества и обращая бесчисленных чужаков в моральных субъектов (т. е. заслуживающих доверия клиентов) – или, как выразился Бенджамин Нельсон, превращая свояков в чужаков, а чужаков в свояков (и тем самым всех – в хорошо воспитанных незнакомцев)[62].
Со времен Вебера принято считать, что “современный капитализм вырос на руинах племенной общности иудейского братства”[63]. На самом деле они сосуществуют, не всегда мирно, как два фундаментальных принципа современной экономики: один строится на клановом принципе, другой культивирует рациональную личность, преследующую собственные экономические интересы в рамках формальной законности. Оба образа жизни можно освоить при помощи регулярных тренировок, идеологической поддержки и усердного самоотречения (смешанных в разных пропорциях). Первый требует сочетания клановости и меркантилизма, редко встречаемого за пределами традиционных меркурианских сообществ; второй – аскетизма и законопослушания, обычно недостижимых (и часто непостижимых) в обществах, не затронутых протестантизмом или реформированным католицизмом. Первый “обращает непотизм на службу капитализму”, второй провозглашает – вопреки всякой очевидности, – что непотизм и капитализм несовместимы. Первый балансирует на грани закона и предпочитает держаться в тени; второй клеймит “коррупцию” и считает себя единственным представителем современности[64].
Евреи не обладали монополией на семейственность, однако нет сомнения, что залогом их экономического успеха было сочетание внутренней солидарности с внешней чуждостью – и что местные предприниматели были способны конкурировать с ними, лишь запретив семейную солидарность и узаконив чуждость. Хозяева могли подражать пришельцам, только отправив всех без исключения в изгнание. Шотландский протестант – не просто еврей, питающийся свининой, как говорил Гейне; он – еврей-одиночка, еврей без народа Израилева, единственное избранное существо[65].
Но и это еще не все. Племенной путь был не просто частью европейской современности наряду с протестантским; протестантский путь был сам в решающем смысле племенным. Новый рынок, новые права и новые личности были учреждены, очерчены, освящены и защищены новым национализированным государством. Национализм был предпосылкой и защитной реакцией современности; современность стала среди прочего новой версией семейственности. Протестантам и либералам не удалось создать мир, в котором “все люди – «братья» в том смысле, что каждый равен «другому»”[66]. Вместо этого они построили новое общество на двух равновеликих столбах – малой семье, притворяющейся автономной личностью, и нации, притворяющейся малой семьей. Адам Смит и большинство его читателей не сомневались в том, что богатство принадлежит, в определенном смысле, “народам” (the wealth of nations), а потому не обращали особого внимания на то обстоятельство, что существуют другие народы.
Иначе говоря, европейцы подражали евреям не только в том, что становились современными, но и в том, что становились древними. Современность неотделима от “племенной общности иудейского братства” – и в том, что касается святости малой семьи, и в том, что касается избранности племени. В эпоху всеобщего меркурианства христиане осознали свою ошибку и начали с большей осторожностью относиться как к братству всех людей, так и к их разделению на священников и мирян. То, что началось как национализация божественного, закончилось как обожествление национального. Сначала выяснилось, что Библия может быть написана на национальном языке и что Адам и Ева разговаривали в раю по-французски, по-фламандски или по-шведски. А потом стало ясно, что у каждой нации есть свой собственный золотой век, свои собственные священные книги и свои собственные высокородные предки[67].
Ранние христиане, восстав против иудаизма, перенесли Иерусалим на небеса; современные христиане вернули его на землю и, по мере надобности, размножили. Как писал Уильям Блейк,
Дерзай, мой дух, неодолим,
Не спи, мой меч, доколе я
Не возведу Иерусалим
В зеленых Англии полях[68].
Национализм означал, что каждой нации надлежало стать еврейской. Все нации без исключения “изъязвлены были за грехи наши” и “мучимы за беззакония наши” (Исайя 53:5). Каждый народ избран, каждая земля обетованна, и каждая столица – Иерусалим. Христиане могли отказаться от попыток возлюбить ближних своих, как самих себя, потому что они поняли, кто такие они сами (французы, фламандцы, шведы). Они уподобились евреям в том смысле, что сакрализовали любовь к самим себе и потеряли интерес к чудесам. Единственным чудом был подвиг избранного народа, к которому каждый член нации причащался через ритуалы и – все чаще – через чтение.
В большинстве стран Европы сакрализация и стандартизация национальных языков привели к канонизации авторов, которым приписывается их создание. Данте в Италии, Сервантес в Испании, Камоэнс в Португалии, Шекспир в Англии, а позже Гете (с Шиллером) в Германии, Пушкин в России, Мицкевич в Польше и многие другие стали объектами замечательно успешных культов (народных и официальных), поскольку они превратились в символы золотого века своих наций – или, вернее, в современную, невыразимо прекрасную и антропоморфную версию изначального единства этих наций. Они сформировали и освятили свои народы, воплотив их дух (в словах и в собственных судьбах), преобразовав миф в высокую культуру и обратив местное в универсальное, а универсальное в местное. Все они “изобрели человека” и “сказали всё”; все они – подлинные пророки современности, превратившие родную речь в язык рая[69].
Культивирование семейственности наряду с чуждостью (современность как всеобщее меркурианство) подразумевает неусыпную озабоченность чистотой тела. Цивилизация как борьба с запахами, секрециями и “микробами” обязана меркурианской отчужденности не меньше, чем развитию науки, – факт, не прошедший мимо внимания цыган, которые приветствовали расфасованные продукты и одноразовую посуду как подспорье в борьбе с marime, и некоторых еврейских врачей, утверждавших, что табуирование “трефной” пищи, обрезание и другие традиционные обряды являются требованиями гигиены[70].
Меркурианская семейственность требует чистоты в не меньшей степени, чем меркурианская отчужденность. Современные государства стремятся к симметрии, прозрачности, безупречности и ограниченности с такой же ревностью, с какой традиционные евреи и цыгане соблюдали ритуальную чистоту и общинную автономию. Патриотизм и гражданственность родственны многовековым усилиям евреев сохранить самобытность в нечистом мире. С той важной разницей, что современные государства нечасто оказываются в положении презираемых и преследуемых меньшинств (хотя многие считают себя таковыми). В руках хорошо вооруженных, насквозь бюрократизированных и не полностью иудаизированных аполлонийцев меркурианская исключительность стала шумно агрессивной. В руках аполлонийцев с мессианскими наклонностями она смертоносна – особенно для меркурианцев. “Окончательное решение еврейского вопроса” имеет такое же отношение к традиции, как и к современности[71].
* * *
Одновременно с мучительным превращением европейцев в евреев происходил исход евреев из юридической, ритуальной и социальной изоляции. В обществе, основанном на нечистых прежде занятиях, гетто для специалистов по этим занятиям теряли смысл – как для самих специалистов, так и для их клиентов. Тем временем новое государство делалось все более безразличным к религии, а значит, более “терпимым” к религиозным различиям – и потому более универсальным и одновременно более навязчивым. По мере того как еврейские общины утрачивали свою независимость, сплоченность и самодостаточность, индивидуальные евреи обретали юридическую защищенность и нравственную легитимность, не утрачивая своей меркурианской ориентации. Некоторые стали аполлонийцами или даже христианами, однако большинство вошло в новый мир, созданный по их образу и подобию, – мир, в котором всем полагалось носить Гермесовы сандалии.
Для большинства аполлонийцев, не отшлифованных “протестантской этикой”, надеть эти сандалии было не легче, чем сестрам Золушки натянуть на ногу хрустальную туфельку. Еврейский путь был гораздо более коротким. Евреи уже были горожанами (включая представителей городской жизни в “местечках” Восточной Европы) и не имели традиции сословного расслоения (“Все гетто было, так сказать, «третьим сословием»”). Социальный статус основывался на личных достижениях, личные достижения определялись ученостью и богатством, ученость приобреталась чтением и толкованием текстов, а богатство – общением с чужими людьми, а не с землей, животными или богами. В обществе беженцев вечные изгнанники чувствовали себя как дома (так, во всяком случае, какое-то время казалось)[72].
В течение XIX столетия большинство евреев Центральной и Западной Европы переехало в большие города, чтобы принять участие в расковывании Прометея (как Дэвид Ландес назвал становление капитализма). Делали они это по-своему – отчасти потому, что другие пути оставались закрытыми, но в первую очередь потому, что их собственный путь не потерял своей эффективности (Прометей начинал как плут и комбинатор). Вышедшие из гетто евреи отличались высокой долей самостоятельной занятости и очевидной предрасположенностью к формированию экономически независимых семейных фирм. Большинство еврейских наемных рабочих работали в маленьких, принадлежавших евреям мастерских, а большинство еврейских банкирских домов, включая Ротшильдов, Блейхродеров, Тодеско, Штернов, Оппенгеймов и Зелигманов, представляли собой семейные фирмы (братья и кузены, часто женатые на кузинах, возглавляли филиалы в разных частях Европы, а свойственники и женщины, выходившие замуж за пределами клана, исключались из прямого участия в деле). В начале XIX века 30 из 52 частных банков Берлина принадлежали еврейским семьям; сто лет спустя большинство из них стали акционерными компаниями с еврейскими управляющими, многие из которых состояли в прямом родстве с отцами-основателями и друг с другом. Крупнейшие из акционерных коммерческих банков, в том числе Deutsche Bank и Dresdner Bank в Германии, Creditanstalt Ротшильдов в Австрии и Credit Mobilier Перейров во Франции, были основаны при участии еврейских финансистов. (Из оставшихся частными – т. е. не акционерными – банков Веймарской Германии почти половина принадлежала еврейским семьям[73].)
В Вене времен fin de siècle 40 % директоров публичных банков были евреями и все банки, кроме одного, управлялись евреями (в том числе представителями старых банкирских кланов) под прикрытием аристократических Paradegoyim. Между 1873 и 1910 годами, в разгар политического либерализма, доля евреев в правлении венской фондовой биржи (Borsenrath) оставалась на уровне примерно 70 %, а в 1921 году в Будапеште 87,8 % участников фондовой биржи и 91 % членов союза валютных маклеров составляли евреи, многие из которых получили дворянство (т. е. сами стали в некотором смысле Paradegoyim). В промышленной сфере существовали еврейские магнаты (такие как Ратенау в электротехнической промышленности, Фридландер-Фульды в угольной, Монды в химической и Баллины в судостроительной), регионы с высокой долей еврейской собственности (такие как Венгрия) и по преимуществу “еврейские” отрасли (текстильная, пищевая, книгопечатная), однако основным вкладом евреев в индустриальное развитие стало банковское финансирование. В Австрии из 112 промышленных директоров, занимавших в 1917-м более семи директорских мест одновременно, половину составляли евреи, связанные с крупнейшими банками, а в Венгрии межвоенного периода до 90 % всей промышленности контролировалось несколькими состоящими в близком родстве семьями еврейских банкиров. В 1912 году 20 % всех миллионеров Великобритании и Пруссии были евреями. В 1908–1910 годах евреи составляли 0,95 % населения Германии и 31 % богатейших семейств (с “коэффициентом представительства в экономической элите” большим, чем где бы то ни было в мире). В 1930 году около 71 % самых состоятельных венгерских налогоплательщиков (с доходами, превышающими 200 000 пенго) были евреями. Ну и разумеется, Ротшильды, “банкиры мира” и “цари евреев”, были самой богатой семьей XIX века[74].
В целом по Европе евреи составляли меньшинство среди банкиров, банкиры – меньшинство среди евреев, а еврейские банкиры слишком яростно конкурировали друг с другом и слишком часто сотрудничали с взаимно враждующими режимами, чтобы иметь постоянное и последовательное политическое влияние (Гейне назвал Ротшильда и Фульда “двумя раввинами от финансов, непримиримыми, как Гиллель и Шамай”). Но в целом очевидно, что европейские евреи достигли значительных успехов при новом экономическом порядке, что они были в среднем состоятельнее, чем неевреи, и что некоторым из них удалось преобразовать меркурианскую квалификацию и семейственность в значительную экономическую и политическую силу. Венгерское государство конца XIX – начала XX века было обязано своей относительной стабильностью поддержке мощной деловой элиты – небольшой, сплоченной, связанной родственными узами и в подавляющем большинстве еврейской. Новая Германская империя была построена не только “на крови и железе”, как утверждал Отто фон Бисмарк, но и на золоте и деловых способностях, большую часть которых поставлял банкир Бисмарка – и всея Германии – Герсон фон Блейхродер. Ротшильды разбогатели на спекуляциях правительственными долговыми обязательствами, так что, когда члены семьи высказывали определенные мнения, члены правительств слушали. В “Былом и думах” Герцена “его величество” Джеймс Ротшильд шантажом принуждает императора Николая I выпустить из страны деньги, которые отец русского социализма унаследовал от немецкой матери-крепостницы[75].
Деньги были одним средством продвижения, образование – другим. Деньги и образование были тесно связаны между собой, но сочетались в различных пропорциях. В Европе того времени считалось, что образование ведет к деньгам; только евреи почти поголовно полагали, что деньги ведут к образованию. Доля евреев в учебных заведениях, готовивших к профессиональным карьерам, была очень значительной; доля детей еврейских торговцев была беспримерно высока. В Вене конца XIX века евреи составляли около 10 % всего населения и около 30 % учащихся классических гимназий. Между 1870 и 1910 годами около 40 % выпускников всех гимназий центральной Вены были евреями; среди тех, чьи отцы занимались коммерцией, евреи составляли 80 %. В Германии 51 % еврейских ученых происходили от отцов-предпринимателей. Путь евреев из гетто вел через коммерческий успех к свободным профессиям[76].
Важнейшей остановкой на этом пути был университет. В 1880-х годах евреи составляли 3–4 % населения Австрии, 17 % студентов высших учебных заведений и треть студентов Венского университета. В Венгрии (5 % населения) они составляли четвертую часть всех студентов и 43 % студентов Будапештского технологического университета. В Пруссии в 1910–1911 годах их было менее 1 % населения, но около 5,4 % всех студентов и 17 % студентов Берлинского университета. В 1922 году в Литве 31,5 % студентов Каунасского университета были евреями (впрочем, благодаря государственной политике коренизации продолжалось это недолго). В Чехословакии доля евреев среди студентов университетов (14,5 %) в 5,6 раза превышала их долю среди населения страны в целом. При сравнении евреев и неевреев, занимавших схожее социальное и экономическое положение, разрыв уменьшается (хотя остается солидным); неизменно лишь то, что в большинстве стран Центральной и Восточной Европы количество неевреев, занимавших подобное социальное и экономическое положение, было чрезвычайно незначительным. В некоторых регионах Восточной Европы практически весь “средний класс” был еврейским[77].
Поскольку государственная служба оставалась в основном закрытой (а также по причине общего для евреев предпочтения самостоятельной занятости), большинство евреев-студентов избирали “свободные” профессии, созвучные их меркурианскому воспитанию и, как выяснилось, совершенно необходимые для функционирования современного общества: медицину, юриспруденцию, журналистику, науку, преподавание в вузах, искусство и “шоу-бизнес”. В Вене на пороге нового столетия евреями были 62 % всех адвокатов, половина докторов и дантистов, 45 % сотрудников медицинских факультетов и одна четвертая всех преподавателей вузов, а также от 51,5 до 63,2 % профессиональных журналистов. В 1920 году 59 % венгерских врачей, 50,6 % адвокатов, 39,25 % всех работавших в частном секторе инженеров и химиков, 34,3 % редакторов и журналистов и 28,6 % музыкантов назвали себя евреями по вероисповеданию. (Если добавить тех, кто перешел в христианство, показатели значительно возрастут.) В Пруссии 1925 года евреями были 16 % врачей, 15 % дантистов и четвертая часть адвокатов; в Польше межвоенного периода евреи составляли около 56 % частнопрактикующих врачей, 43,3 % частных преподавателей, 33,5 % адвокатов и нотариусов и 22 % журналистов, издателей и библиотекарей[78].
Из всех дипломированных профессионалов, служивших жрецами и оракулами новых истин, вестники и глашатаи были наиболее меркурианскими, наиболее маргинальными, наиболее заметными, наиболее влиятельными – и в наибольшей степени еврейскими. В Германии, Австрии и Венгрии начала XX века издателями, редакторами и авторами большинства национальных газет, не являвшихся специфически христианскими или антисемитскими, были евреи (впрочем, в Вене даже христианские и антисемитские газеты иногда издавались евреями). По словам Стивена Беллера, “в век, когда пресса была единственным средством массовой информации, культурным или не очень, либеральная пресса была по преимуществу еврейской”[79].
То же – чуть в меньшей степени – справедливо в отношении издательских домов, а также разнообразных публичных мест, в которых обмен известиями, пророчествами и редакторскими комментариями производился устно и бессловесно (посредством жеста, моды и ритуала). “Еврейская эмансипация” была среди прочего попыткой индивидуальных евреев найти нейтральное (или, по выражению Джейкоба Каца, “полунейтральное”) общество, в котором нейтральные субъекты получат равный доступ к нейтральной светской культуре. Как маркиз д’Аржан писал Фридриху Великому (прося за Моисея Мендельсона): “Philosophe, являющийся плохим католиком, просит philosophe, являющегося плохим протестантом, о даровании привилегии [проживания в Берлине] philosophe, являющемуся плохим евреем”. Быть плохим в глазах Бога совсем не плохо, поскольку Бог либо отошел от дел, либо принципиально не заботится о добре и зле. Для евреев первыми островками равенства и нейтралитета стали масонские ложи, члены которых придерживались веры “общей для всех тех, кто готов оставить свои частные мнения при себе”. Когда многие пришли к выводу, что других вер не осталось, некоторые частные мнения превратились в “общественное мнение”, а евреи стали специалистами по его формированию и распространению. В начале XIX века хозяйками самых влиятельных немецких салонов были еврейки, а евреи обоего пола стали заметной, а иногда и самой значительной частью “публики” в театрах, концертных залах, художественных галереях и литературных обществах. Большинство постоянных посетителей венских литературных кофеен – и большинство писателей и поэтов, чьи произведения там обсуждались, – были евреями. Модернизм Центральной Европы немыслим вне процесса еврейской эмансипации[80].
То же произошло в науке, еще одной опасной меркурианской специальности, тесно связанной с искусствами и ремеслами. Для многих евреев переход от изучения Закона к изучению законов природы оказался относительно гладким и чрезвычайно успешным. Новая наука о личности (названная в честь Психеи, “души” по-гречески, вечной жертвы жестокости Эроса) была делом почти исключительно еврейским; новая наука об обществе представлялась историку литературы Фридриху Гундольфу (урожденному Гундельфингеру) “еврейской сектой”; многие старые науки, в первую очередь физика, математика и химия, много выиграли от притока евреев. Пять из девяти нобелевских лауреатов из веймарской Германии были евреями, а один из них, Альберт Эйнштейн, стал наряду с Ротшильдом одной из главных икон современности. Вернее, Ротшильд остался призрачным символом “незримой руки”, а Эйнштейн стал истинной иконой – образом божества, ликом разума, пророком прометейства[81].
* * *
Невиданный успех евреев в центральных областях человеческой жизни породил ожесточенные споры о его истоках. Идеолог расизма и певец “вольного и верного” Тевтона Хьюстон Стюарт Чемберлен отметил, что евреи стали “непропорционально важной и во многих сферах первостепенной составляющей нашей жизни”, и предложил несколько влиятельных объяснений. Во-первых, евреи от природы обладают “аномально развитой волей”, которая и породила их “феноменальную гибкость”. Во-вторых, их исторически сложившаяся вера не знала “отвлеченных непостижимых таинств”, политизировала отношения человека с Богом, уподобила нравственность слепому исполнению правил и породила всеразлагающий рационализм, гибельный для вольного и верного Тевтона. И наконец, самое главное: “иудаизм и его продукт, еврей” породили “идею физического расового единства и расовой чистоты” – нашедшую идеальное воплощение в Тевтонах и нуждавшуюся в защите от еврейского засилья. Будущий пророк нацизма обличал евреев за изобретение нетерпимости. “Для них грех – понятие национальное, тогда как отдельный человек «праведен», если он не преступает «закон»; спасение является не нравственным искуплением личности, а возрождением Государства; нам трудно это понять”[82].
Известный еврейский историк и фольклорист Джозеф Джейкобс согласился с Чемберленом в том смысле, что между евреями и современностью существуют особые отношения, но был более высокого мнения и о евреях, и о современности. По его словам, еврейские “мыслители и мудрецы, обладая орлиным зрением, помышляли о судьбах всего человечества и трубным голосом возвещали проповедь надежды попранным людям всех рас. Закрепив за собой и своим народом долг и обязанности подлинной аристократии, они явили людям идеалы подлинной демократии, основанной на праве и справедливости”. Предложенное Джейкобсом объяснение отличается от теории Чемберлена большей четкостью и последовательностью. Считая религию важным, но не поддающимся научному анализу фактором, он приписывает успехи евреев “зародышевой плазме”:
Вполне вероятно, что определенное число евреев нашего времени произведет на свет больше “гениев” (творческих или нет, сказать не возьмусь), чем такое же число людей других рас. Очень может быть, к примеру, что в настоящее время немецкие евреи в количественном (не обязательно качественном) отношении стоят во главе европейского интеллекта.
Распространение высоких интеллектуальных способностей в несхожих регионах подтверждает теорию общего происхождения современных евреев, и, “если это так, желательность дальнейшего распространения еврейской зародышевой плазмы представляет интерес не для одних только евреев”. Важным доказательством является очевидный успех “еврейских полукровок”:
Самого их существования, причем в большом числе, довольно, чтобы опровергнуть утверждение Чемберлена о расовом превосходстве германской зародышевой плазмы над еврейской[83].
Вернера Зомбарта зародышевая плазма не интересовала:
Теории расовых идеологов – это новая разновидность религии, пришедшая на смену старой еврейской или христианской религии. Что такое теория арийской, или германской, всемирно-исторической “миссии”, если не современная форма культа “избранного народа”?
На самом деле “еврейский гений” вырос из вечного кочевничества, сначала пастушеского, а затем торгового:
Только среди пастухов (но не среди землепашцев) могла зародиться идея прибыли и воплотиться в жизнь концепция неограниченного производства. Только среди пастухов могла возобладать точка зрения, что в экономической деятельности значение имеет абстрактное количество товаров, а не то, пригодны ли они для использования.
Евреи – кочевники Европы:
“Кочевничество” – прародитель капитализма. Связь между капитализмом и иудаизмом становится, таким образом, более ясной.
Но главное не в этом. Книга Зомбарта была ответом Максу Веберу, и большинство его аргументов следовали за логикой Вебера. Капитализм невозможен без протестантской этики; иудаизм – больший протестант, чем протестантство (старше, крепче и чище); иудаизм – прародитель капитализма. “Вся религиозная система – не что иное, как контракт, заключенный между Иеговой и его избранным народом, контракт со всеми вытекающими из него последствиями и обязательствами”. У каждого еврея есть свой лицевой счет на небесах, и смысл жизни каждого еврея состоит в том, чтобы закрыть этот счет, следуя писаным правилам и не оставшись в долгу. Чтобы следовать правилам, их нужно знать, следовательно, “само их изучение стало средством достижения прижизненной святости”. Неослабное изучение правил и неукоснительное их соблюдение заставляет человека “обдумывать свои действия и осуществлять их в соответствии с велениями разума”. Религия как закон направлена на “подавление животных инстинктов человека, на обуздание его желаний и наклонностей и на замену эмоциональных порывов продуманными поступками; короче говоря, на «этическое укрощение человека»”. Следствием этого является светский аскетизм, вознаграждаемый земными богатствами, или пуританизм без свинины[84].