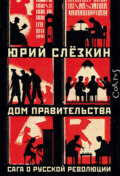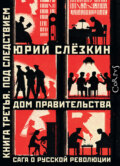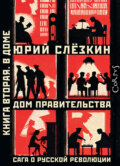Юрий Слёзкин
Эра Меркурия. Евреи в современном мире
Противопоставление чистоты и скверны лежит в основе всякой нравственности, будь то традиционные различия (между частями тела, частями света, естественными сферами, сверхъестественными силами и человеческими видами) или различные пути спасения, духовные либо политические. Так или иначе, “грязь” и “чуждость” (людей или вещей) обыкновенно связаны – и неизменно опасны. Универсалистские идеологии попытались избавиться от чуждости, дав ей иную интерпретацию (провозгласив, в случае одной из них, что “не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека”[14]. Полного успеха они не добились (мир по-прежнему полон старомодными сыроедящими чужаками), но грязь и чуждость стали менее страшными и потенциально преодолимыми – если не считать профессиональных иностранцев, чья вера и доля неотделимы от чуждости. Большинство традиционных евреев, цыган и других кочевых посредников разделяют эту точку зрения; не убежденные универсалистской риторикой, они сохраняют разделение мира на две отдельные сущности, одна из которых ассоциируется с чистотой (поддерживаемой при помощи ритуалов), а другая – со скверной. Если среди христиан и мусульман слова, обозначающие чужаков, иноземцев, язычников, варваров и неверных, конкурируют друг с другом и не всегда относятся к одной общей категории, еврейские и цыганские понятия “гой” и “гажо” позволяют воспринимать всех неевреев или нецыган как одно чуждое племя, состоящее из отдельных гоев и гажо. Христиане и мусульмане, переходящие на кочевое посредничество, проявляют склонность к эндогамии и таким “национальным”, чуждым миссионерства церквям, как грегорианская (армянское слово “одар” аналогично “гою” и “гажо”), несторианская, маронитская, мелькитская, коптская, ибадийская и исмаилитская.
Все они – избранные народы в том смысле, что открыто боготворят самих себя и принципиально отмежевываются от всех прочих. Существуют и другие такие сообщества, но мало кто столь же последователен. Многие аристократические сословия, к примеру, традиционно (и иногда убедительно) возводят свое происхождение к кочевым воинам, подчеркивают свою чуждость как дело “чести”, практикуют строгую эндогамию и соблюдают сложные ритуалы избегания. Жрецы (священники) также устраняются от базовых форм социального взаимодействия, образуя самовоспроизводящиеся касты или вовсе отказываясь от воспроизводства. Однако и те и другие, как правило, делят имя, место и бога (а порой и трапезу или жену) с теми, чей труд присваивают благодаря монополии на доступ к земле и душеспасению. Кроме того, многие из них принадлежат к универсалистским идеологиям, ограничивающим этическую обособленность и поддерживающим крестовые походы, депортации, миссионерскую активность и другие виды борьбы с отличиями.
У “меркурианцев” подобных обязательств не существует, а самые бескомпромиссные из них, такие как цыгане и евреи, сохраняют радикальный дуализм и очистительные запреты на протяжении многих веков проповедей и преследований. Черный шелковый шнур, который правоверные евреи носят на поясе, чтобы отделить верхнюю часть тела от нижней, аналогичен “ограде” (эй-рув), обращавшей все местечко в один общий дом для соблюдения чистоты субботы, а также незримому, но жизненно важному барьеру, который повсеместно обозначает гойско-еврейскую границу. Цыганские средства защиты от скверны еще более существенны и многочисленны, поскольку в отсутствие письменной традиции на них лежит основное бремя этнической дифференциации. Быть цыганом значит непрерывно сражаться со скверной (marime) – задача тем более серьезная, что цыгане по роду их деятельности не могут не жить среди гажо, которые являются главным источником и воплощением заразы (и тем более парадоксальная, что отдельно взятые гажо живут среди цыган в качестве слуг, исполняющих нечистую работу). На смену религиозным предписаниям приходят “гигиенические” – так, во всяком случае, может показаться, когда цыгане отбеливают стены своих жилищ или используют бумажные полотенца, чтобы поворачивать ручки кранов и открывать двери в общественных уборных. Евреи, которых часто обвиняют в неопрятности, всегда вызывали подозрение и восхищение соседей своей приверженностью телесной чистоте. И даже на Индийском субконтиненте, где все этносоциальные группы окружают себя сложными очистительными табу, парсы выделяются интенсивностью заботы о личной гигиене и строгостью запретов, связанных с менструальным циклом[15].
* * *
Следом за чистотой и скверной существенным признаком чуждости является язык. Слово “варвар” значит “пустомеля” или “заика”, а славянский термин “немец” (“немой”) первоначально относился ко всем иноземцам. Большинство “меркурианцев” выступают в роли варваров и “немцев”, где бы они ни жили (иногда ценою значительных усилий). Если они не говорят на языке, который является иностранным для окружающего населения, они создают его сами. Так, некоторые европейские цыгане говорят на “романи”, морфологически продуктивном языке индийской группы, родственном языкам “дом” Ближнего Востока и восходящем к языку индийской касты торговцев, кузнецов и актеров. (Впрочем, романи необычен в том отношении, что он не выводим из определенного регионального диалекта и чрезвычайно богат морфосинтаксическими заимствованиями, что позволяет некоторым ученым называть его языком “слияния” и отказывать ему в грамматической связности и независимости[16].) Многие другие цыгане говорят на своеобразных языках “пара-романи”, в которых лексикон романи сочетается с грамматикой (фонологией, морфологией и синтаксисом) языков окружающего большинства. Существуют среди прочих английская, испанская, баскская, португальская, финская, шведская и норвежская разновидности романи; все они остаются непонятными для окружающего населения и по-разному описываются лингвистами: как бывшие диалекты романи, преобразованные посредством “массированных грамматических замещений”; как креольские языки, произведенные от “пиджинов” (упрощенных, гибридных языков контакта), которыми первые иммигранты-рома пользовались для общения с местными изгоями; как “смешанные диалекты”, созданные цыганскими общинами, утратившими грамматически продуктивный романи, но сохранившими доступ к нему (через старых соплеменников и новых иммигрантов) в качестве инструмента “отчуждения”; как “смешанные языки” (местная грамматика, иммигрантский словарь), порожденные соединением двух языков-прародителей; и наконец, как этнолекты и криптолекты, сознательно создаваемые носителями стандартных местных языков при помощи широко доступных терминов, происходящих из романи и других источников[17].
Каково бы ни было их происхождение, языки “пара-романи” используются исключительно кочевыми посредниками, обычно заучиваются в отрочестве и передаются из поколения в поколение как эмблемы групповой принадлежности и тайные коды. Согласно информантам Асты Олесен из числа шейх-мохаммади, их дети лет до шести-семи говорят по-персидски, а затем осваивают адургари, “на котором мы говорим, когда чужим не следует знать, о чем идет речь”. То же самое верно в отношении “тайных языков” фуга и ваата – кочевых посредников Южной Эфиопии[18].
Когда язык, незнакомый окружающему населению, недоступен, а заимствуемые из местного языка элементы недостаточны, “варварство” и “немота” речи обеспечиваются различными формами лингвистического камуфляжа: произнесением задом наперед (целых слов или отдельных слогов), заменой гласных, подстановкой согласных, префиксацией, суффиксацией, парафразированием, словесной игрой и т. п. Инаданы делают свою речь непонятной путем добавления приставки от- и суффикса -ак к некоторым существительным языка тамачеков [тамаджеки, тамашеки]; халаби (кузнецы, целители и актеры долины Нила) преобразуют арабские слова добавлением суффикса -eishi или -elheid; в речи английских цыган (англоромани) слова about (о, относительно), bull (бык) и tobacco smoke (табачный дым) превращаются в aboutas, bullas и fogas; а в языке шельта вместо ирландских do (два) и dorus (дверь) произносится od и rodus, а вместо английских solder (паять) и supper (ужин) – grawder и grupper[19]. Шельта – язык ирландских “странников”, который состоит из видоизмененного ирландско-гаэльского лексикона, встроенного в грамматическую структуру английского языка. Основная его функция – непрозрачность для непосвященных, и, согласно сообщению собирателя Джона Сэмпсона, который в 1890 году повстречал в ливерпульской таверне двух “лудильщиков”, функцию свою он выполнял успешно:
Эти люди не затруднялись никакими предрассудками касательно личного достоинства или опрятности, а речь их была во всех смыслах испорченной. Этимологически ее можно описать как вавилонскую, образцовый жаргон ночлежки, составленный из шельта, “быстрого арго”, рифмованного сленга и романи. Говорили они на этом наречии с поразительной беглостью и, по-видимому, с немалой для себя выгодой[20].
Подобным образом принижались и языки еврейской диаспоры, на которых их носители говорили со столь же поразительной беглостью и еще большей для себя выгодой (в смысле удовлетворения всего спектра познавательных и коммуникативных нужд). Свои первоначальные языки евреи утратили относительно рано, но пока они оставались кочевыми посредниками, они нигде не переняли в неизмененном виде язык окружающего населения. Где бы они ни появлялись, они создавали или приносили с собой свои собственные национальные языки, так что существовали еврейские варианты (иногда не один) арабского, персидского, греческого, испанского, португальского, французского, итальянского и многих других языков. Некоторые гебраисты считают, что это были не “варианты”, а отдельные языки – Judezmo, например, а не “иудеоиспанский”, или Yahudic, а не “иудеоарабский” (подобно тому как специалисты по цыганским языкам противопоставляют “англоромани” “романи-английскому”). Идиш, который обычно классифицируется как германский язык или диалект немецкого, разительно отличается от своих “родственников” тем, что содержит чрезвычайно высокий процент негерманских грамматических элементов, не может быть возведен к региональному диалекту (Соломон Бирнбаум называет его “синтезом разнообразного диалектического материала”) и является монопольным достоянием профессионально специализированной и религиозно изолированной общины, где бы ни жили ее члены[21]. Нет оснований полагать, что первые еврейские переселенцы в Рейнскую область когда-либо говорили на одном диалекте со своими соседями-христианами; напротив, романские (по всей видимости) языки, на которых они говорили в момент иммиграции, сами были специфически еврейскими[22].
Некоторые ученые считают, что идиш – это романский или славянский язык, в словаре которого произошли массированные замещения (“релексификация”), или особая разновидность креольского языка, произошедшего от “гибридизированного” немецкого и впоследствии “обогащенного заимствованиями”[23]. Две канонические истории идиша отвергают его германское происхождение, не предлагая альтернативы в рамках общепринятой номенклатуры (отличной от “еврейских языков”): Бирнбаум называет его “синтезом” семитских, арамейских, романских, германских и славянских “элементов”, а Макс Вейнрейх описывает его как “язык-сплав”, образованный из четырех “детерминант” – древнееврейского, лоеза (иудеофранцузского и иудеоитальянского), немецкого и славянского. Согласно Джошуа А. Фишману, идиш – “многокомпонентный” язык “диаспорически-еврейского” типа, который часто рассматривается его носителями (и другими хулителями) как несовершенный, но который никогда не был гибридным (pidgin), поскольку никогда не проходил через стадию стабильного редуцирования и не служил языком межгруппового общения[24]. Креолисты говорят об идише как об исключении или не говорят о нем вовсе; идишисты относят его к смешанным языкам, не объясняя, что это такое; главный теоретик “смешанных языков” не считает его достаточно смешанным; а большинство общих лингвистов включают идиш в германскую генетическую группу, не обсуждая особенностей его генезиса[25].
Ясным представляется одно: когда у кочевых посредников нет наречия, чуждого окружающему населению, они создают новые языки способами, которые не похожи ни на генетическую эволюцию (передачу от поколения к поколению), ни на гибридизацию (упрощение и ролевое ограничение). Языки эти так же подвижны и необыкновенны, как и их носители. Они не умещаются ни в одну из существующих языковых “семей”. Их raison d’être – увековечение отличий, сознательное сохранение странности, а значит, чуждости. Все они – особые тайные языки неутомимо хитроумного Меркурия. Арго еврейских скототорговцев (и раввинов) средневековой Германии содержало гораздо больше древнееврейских слов, чем речь их соплеменников, потребности общения которых были не столь эзотеричны. С иронией – и немалой проницательностью – они называли его Loshen-Koudesh (“священный язык / коровий язык”) и пользовались им, как идишем в миниатюре, на больших расстояниях. (Вне еврейского мира идиш, как и романи, был важнейшим источником “блатных” словарей Европы. Русские слова “блатной”, “феня” и “фраер” – еврейского происхождения[26].) Но главной причиной странности меркурианских языков была религия, то есть “культура”, то есть кочевое посредничество как образ жизни. Как писал Макс Вейнрейх, “«наше – значит, не чужое» простирается гораздо дальше, чем слова отвращения или слова отличия”. Нечистые “гойские” термины не годились для обозначения не только мерзости и святости, но и деторождения, милосердия, семьи, смерти и большей части жизни. Одна из молитв Субботы начинается словами: “Тот, кто отличает святое от нечестивого”, а завершается словами: “Тот, кто отличает святое от святого”. В пределах еврейского – и цыганского – мира “все закоулки жизни святы, одни больше, другие меньше”, а потому тайные слова множились и преображались, пока сам язык не стал тайным, подобно народу, которому он служил и который славил[27].
* * *
Помимо более или менее тайных наречий, некоторые кочевые посредники располагают формально сакральными языками и алфавитами, которые служат для поддержания постоянной связи с богом, домом, прошлым и спасением (древнееврейский и арамейский у евреев, авестанский и пахлави у парсов, грабар у армян, сирийский у несториан). В некотором смысле все кочевые посредники (включая заокеанских китайцев и восточноевропейских немцев) обладают такими языками, поскольку любой “литературный” язык сакрален в той степени, в какой он поддерживает связь говорящих на нем людей с их (новым) богом, домом, прошлым и спасением. Иначе говоря, все меркурианцы многоязычны (Гермес был богом красноречия). Как профессиональные чужаки, равно зависящие от культурных отличий и экономической взаимосвязанности, они обладают по крайней мере одним внутренним языком (сакральным, тайным или и тем и другим) и по крайней мере одним внешним. Все они дипломаты, переводчики и мистификаторы, а те из них, кто владеет грамотой, обычно гораздо грамотнее хозяев, поскольку грамотность, как и язык вообще, является ключом как к сохранению самобытности, так и к выполнению коммерческой (сочетательной) функции.
Но и здесь отличие первично. Успешное выполнение сочетательной функции (посреднической, переводческой, переговорной) зависит от увековечения отличий, а отличия приводят к странным союзам: где бы ни жили меркурианцы, их отношения с клиентами строятся на взаимной неприязни, подозрительности и презрении. Даже в Индии, где все общество состоит из эндогамных, экономически специализированных, страшащихся осквернения чужаков, парсы чувствуют себя более чуждыми и чистыми, чем все остальные[28]. Взаимная антипатия оседлых производителей и кочевых посредников повсеместна, неизбывна и в конечном счете связана с опасностью осквернения. “Они” едят всякую гадость, плохо пахнут, живут в грязи, плодятся как кролики и вообще постоянно – и непоправимо – смешивают чистое с нечистым (отчего становятся предметом сексуального любопытства). Любые контакты с ними – особенно через пищу (гостеприимство) и кровь (супружество) – опасны и потому запретны – и потому желанны. И потому запретны. Подобные страхи редко симметричны: нарушитель границы по определению изгой, а значит, всегда опасен и плохо приручим. В сложных обществах с прочно укоренившимися универсальными идеологиями эти взаимоотношения могут меняться: нарушители границ сохраняют страх перед повседневным осквернением и кровосмешением (шикса – “нееврейка” – означает “нечистая”), а принимающее их большинство все чаще интерпретирует чуждость в религиозных и политических терминах. Однако стержнем антимеркурианской риторики остается боязнь заразиться, а главным проводником заразы по-прежнему являются кровь и пища: произнесение колдовских заклинаний, наводящих порчу на урожай, использование крови младенцев для приготовления ритуальной пищи или угроза “чистоте крови” (limpieza de sangre) христианской Испании.
Асимметрия этим не ограничивается. Принимающие общества имеют на своей стороне численное превосходство, воинскую этику, силу оружия, а иногда государство. Кроме того, они относительно самодостаточны в экономическом отношении – не в такой степени, как полагали Фердинанд и Изабелла накануне изгнания евреев из Испании, но в несравненно большей степени, чем кочевые посредники, которые полностью зависят от своих клиентов. И наконец, их мнения друг о друге представляют собой взаимно дополняющие противоположности, на которых строится мировая гармония: свое – чужое, оседлое – кочевое, телесное – разумное, мужское – женское, постоянное – изменчивое. С течением времени относительная ценность отдельных элементов может меняться, но оппозиции остаются прежними (Гермес обладал всеми теми качествами, за которые будут ненавидеть – и уважать – цыган, евреев и заокеанских китайцев)[29].
И что важнее всего, мнения эти по большей части справедливы. Не в смысле реальности определенных поступков или применимости культурных обобщений к отдельным личностям, а в той мере, в какой они описывают культурные ценности и экономическое поведение одного общества в терминах другого. Конкретные формулировки могут меняться, но смысл базовых оппозиций остается прежним. Мнение, что кочевые посредники держатся замкнуто, помогают друг другу, привержены иным ценностям, настаивают на различиях и сопротивляются ассимиляции, разделяется обеими сторонами (и превращается в обвинение лишь в тех немногочисленных обществах, в которых ассимиляция считается добродетелью). Чуждость – их профессия; замкнутость – средство поддержания чуждости; а взаимопомощь – способ выживания и залог общей судьбы.
Даже причины их чуждости не были предметом споров. Европейский антисемитизм часто объясняют еврейскими истоками христианства и последующим изображением необращенных евреев в роли богоубийц (“этническим” толкованием крика толпы: “Кровь Его на нас и на детях наших”). Суждение это справедливо во многих отношениях (второе пришествие Христа связано с концом изгнания евреев), но верно и то, что до утверждения коммерческого капитализма, при котором Гермес стал верховным божеством, а некоторые разновидности кочевого посредничества – модными и даже обязательными, меркурианская жизнь повсеместно считалась – и самими кочевыми посредниками, и их клиентами – небесной карой за изначальное прегрешение.
Одна из групп “гриотов”, живущих среди народа малинке, была приговорена к вечным странствиям за то, что их предок, Саурахата, пытался убить пророка Мухаммеда. Инаданы были прокляты за то, что продали прядь волос пророка проходившему мимо арабскому каравану. Ваата (из Восточной Африки) вынуждены были кормиться за счет племени боран, потому что их предок опоздал на первое после сотворения мира собрание, на котором Бог небес раздавал домашний скот. Шейх-мохаммади рассказывают, что сыновья их предка так плохо себя вели, что он “проклял их всех и сказал: да не быть вам никогда вместе; и они рассеялись и пошли бродить по миру”. А Сиаун, пращур гхорбатов Афганистана, “сидел однажды на вершине холма, плетя решето, и проголодался. И появился кусок хлеба, сначала совсем близко, но потом, поскольку Бог гневался на нашего предка, все дальше и дальше, пока не скатился с этого холма и не закатился на другой, и Сиауну пришлось бежать за ним далеко-далеко. Вот почему мы, его потомки, должны скитаться по белу свету в поисках хлеба насущного (рузи)”. Одна из многих легенд, объясняющих образ жизни цыган, гласит, что Адам и Ева были до того плодовиты, что решили спрятать некоторых своих детей от Бога, который прогневался и обрек невидимок на вечную бесприютность. Среди других объяснений упоминаются кровосмешение и отказ в гостеприимстве, но наиболее распространенная теория заключается в том, что цыгане выковали гвозди, которыми был распят Христос. По положительной версии той же легенды цыгане отказались выковать четвертый гвоздь и в награду получили разрешение воровать и свободу путешествовать, – но это, по всей видимости, более поздняя интерпретация (как и объяснение изгнанничества евреев притеснениями со стороны гоев). До утверждения господства светских индустриальных государств большая часть человечества исходила из того, что кочевое посредничество означает бесприютность и что бесприютность – проклятие. Жертвами самых знаменитых в западной традиции наказаний стали Прометей, самый искусный из мастеров, укравший Зевсов огонь; Сизиф, “самый хитрый из людей”, обманувший Смерть, и, разумеется, Одиссей/Улисс, самый еврейский из греков, матросы которого дали волю враждебным ветрам, не пускавшим его домой[30].
Согласно другому распространенному взгляду, меркурианцы лживы, алчны, коварны, напористы и грубы. Это тоже констатация факта в том смысле, что, с точки зрения крестьянина, пастуха, князя и священника, любой торговец, ростовщик и ремесленник есть злостный и намеренный нарушитель норм достойного поведения (в особенности если он – бормочущий басурманин без дома, роду и племени). “Среди бедуинов руала богатство – верблюды, добро, золото – не накапливается, а преобразуется в репутацию (честь). Среди странствующих торговцев, которых руала, с большим или меньшим на то основанием, считают посланцами города, богатство определяется количеством собственности в виде денег или вещей. Для руала владение богатством равнозначно отсутствию щедрости, что ведет к умалению чести и, следовательно, авторитета. Для горожан – и странствующих торговцев – обладание собственностью является признаком власти и влияния”[31]. Всякое экономическое разделение труда предполагает дифференциацию ценностей; вслед за разделением по половому признаку важнейшим является отделение производителей и присвоителей пищи от специалистов по предоставлению услуг. Аполлонийцы и дионисийцы – одни и те же люди: сегодня трезвые и степенные, завтра пьяные и разгульные. Последователи Гермеса не бывают ни степенными, ни разгульными – они известны как ловкачи и умельцы с тех пор, когда Гермес, едва появившись на свет, изобрел лиру, смастерил “неописуемые, немыслимые, изумительные” сандалии и украл у Аполлона стадо скота.
У Гермеса ничего, кроме хитроумия, не было. Аполлон, его старший брат и антипод, покровительствовал и скотоводству, и земледелию. В качестве бога производителей пищи он владел землей, направлял течение времени, защищал воинов и мореплавателей и вдохновлял истинных поэтов. Он был мужественным и вечно юным, атлетичным и артистичным, поэтичным и обстоятельным – самым универсальным из богов и самым боготворимым. Разница между Аполлоном и Дионисом (раздутая Ницше до устрашающих размеров) относительно невелика, потому что вино – лишь один из бесчисленных плодов моря и суши, которыми ведал Аполлон. (Дионисийцы – это аполлонийцы на празднике урожая.) Разница между аполлонийцами и меркурианцами – судьбоносное противостояние производителей пищи и создателей понятий и символов. Меркурианцы трезвы, но неосновательны.
Когда аполлонийцы превращаются в космополитов, они негодуют на упорство меркурианцев и обвиняют их в клановости, племенной исключительности и прочих грехах, которые недавно были добродетелями (и во многих случаях остаются таковыми). Подобные обвинения многим обязаны принципу зеркального отображения: если космополитизм – добродетель, значит, чужакам он несвойствен (если не считать чужаков из породы благородных дикарей, сохраняемых в виде укора и идеала). Однако еще большим они обязаны реальности: в сложных аграрных обществах (а их предшественники космополитизмом не интересовались) и, определенно, в современных государствах кочевые посредники обладают гораздо большей родовой солидарностью и внутренней сплоченностью, чем их оседлые соседи. Это справедливо в отношении всех кочевников, но мало кто может сравниться с кочевниками-меркурианцами, которые не обладают ни дополнительными ресурсами, ни механизмами принуждения. По словам Пьера ван ден Берге, “группы с густой сетью родственных связей и сильной структурой патриархальной власти, позволяющей удерживать разветвленные семьи в семейном бизнесе, имеют серьезные преимущества в посреднических занятиях перед группами, у которых такие характеристики отсутствуют”[32].
Независимо от того, является ли “корпоративное родство” причиной или следствием кочевого посредничества, большинство кочевых посредников такой системой обладает[33]. “Нации” ром состоят из родов (вица), которые подразделяются на большие семьи, нередко объединяющие свои доходы в ведении старейшин; кроме того, кочующие объединения (таборы) и территориальные ассоциации (кампании) распределяют между собой области, подлежащие эксплуатации, и организуют свою экономическую и социальную жизнь под руководством главы одного из семейств[34].
Индийцы Восточной Африки избежали некоторых профессиональных ограничений и социальных требований субконтинента (“мы все baniyas, даже те, у кого нет dukas [лавок]”), но сохранили эндогамию, очистительные запреты и большую семью в качестве экономической единицы[35]. В Западной Африке все ливанские торговые предприятия были семейными. Это “означало, что клиенты (даже не отдавая себе в этом отчета) могли рассчитывать на преемственность и долгосрочность. Сын всегда возвращал долги отца и ожидал возврата выданных отцом кредитов. Сплоченность семьи была социальным фактором, создававшим основу экономического успеха ливанских торговцев: власть мужчины над его женой и детьми означала, что дело велось так же четко [и дешево!], как если бы его вел один-единственный человек, и так же широко, как если бы им занималась коммерческая группа”. Страхование от несчастных случаев, экспансия в новые сферы, различные формы кредитования и социального регулирования обеспечивались более крупными кланами, а иногда всей ливанской общиной в целом[36]. Заокеанские китайцы получали доступ к капиталу, социальному обеспечению и рабочим местам, становясь членами эндогамных, централизованных и (по большей части) территориальных организаций, основанных на фамилии (клане), родной деревне, районе или диалекте. Эти организации формировали общества взаимного кредита, цеховые гильдии, клубы взаимопомощи и торговые палаты, которые структурировали экономическую жизнь, занимались сбором и распространением информации, улаживали споры, обеспечивали политическую поддержку и финансировали школы, больницы и различные виды общественной деятельности. Криминальные аналоги таких объединений (“гангстерские тонги”) представляли собой кланы поменьше или функционировали как фиктивные семьи со сложными ритуалами приема новых членов и хорошо налаженной системой социального обеспечения[37]. (Все долговечные “мафии” являются либо ответвлениями сообществ кочевых посредников, либо успешными их имитациями.)
Клановость – это лояльность по отношению к ограниченному и хорошо очерченному кругу родичей (реальных или фиктивных). Такая лояльность создает внутреннее доверие и внешнюю неприступность, которые помогают кочевым посредникам выжить, а в некоторых случаях – сильно преуспеть в чуждом окружении. “Кредиты раздаются, а капиталы накапливаются в ожидании того, что обязательства будут выполняться; делегирование власти производится без опасения, что отдельные ее носители предпочтут собственные интересы общему делу”[38]. В то же самое время чужаки легко определяются и надежно изолируются: “Иноземцу отдавай в рост”. Клановость – это лояльность с точки зрения постороннего.
Экономический успех, да и сама природа меркурианских занятий ассоциируются с еще одним широко распространенным и по существу точным отношением к их культуре: “Они думают, что они лучше всех, что они самые умные”. И, разумеется, они так думают и таковыми являются. Лучше быть избранным, чем неизбранным, какую бы цену ни пришлось заплатить. “Благословен ты, о Господь, Царь Вселенной, что не сотворил меня гоем”, – говорится в еврейской молитве. “Хорошо, что я потомок Иакова, а не Исава”, – писал Шолом-Алейхем[39]. “Это такое чувство, которое появляется у тебя, если ты учишься в элитной школе и вдруг попадаешь в техникум, – объяснял один парс, обремененный чувством превосходства перед другими индийцами. – Ты гордишься тем, что учишься в элитной школе, но тебя смущает, что другие люди могут эту гордость заметить. Смущает, потому что ты думаешь, что они думают, что ты ощущаешь превосходство перед ними, а ты и ощущаешь, и знаешь, что это неправильно”[40].
Неправильным это стало совсем недавно. Меркурианцы обязаны своим выживанием чувству превосходства над аполлонийцами, которое основано на убеждении, что главной мерой сравнения является интеллект. Иаков был умнее волосатого Исава, а Гермес перехитрил Аполлона и насмешил Зевса, когда ему был всего день от роду (страшно подумать, что учинил бы он с пьяным Дионисом). Обе эти истории – и многие такие же – рассказывают сами потомки хитрецов и умельцев. Канджары презирают своих легковерных хозяев; ирландские “странники” считают, что их главным преимуществом перед оседлым населением является живость ума (“сообразительность”); фольклор ромов полон историй о том, как они обхитрили тугодумов – нецыган; а еврей из местечка готов был признать (когда был в хорошем настроении), что, говоря словами Мориса Самуэла, “в основе своей Иван – малый неплохой; глуповат, пожалуй, и грубоват, любит выпить и жену поколачивает время от времени, но, в сущности, добродушный… – пока начальство не начинает вертеть им как хочет”[41].