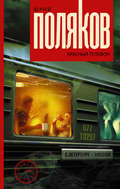Юрий Поляков
Веселая жизнь, или Секс в СССР
14. «Бей в барабан и не бойся!»
В парткоме, товарищ, не мучат,
Младенцев без соли не жрут.
С тебя только взносы получат
И в пыль, если надо, сотрут.
А.
Обливаясь потом, я влетел в спальню князя Святополка-Четвертинского. За столом сидела Арина, технический секретарь парткома, и плакала. Она была дочкой крупного издательского работника, окончила Литинститут, писала вроде бы даже стихи и состояла в нашей комсомольской организации. Недавно Арина вышла замуж за мальчика из хорошей семьи: познакомились они на море в Болгарии и влюбились до штампа в паспорте. Увидев ее слезы, я понял: в молодой семье неприятности, но на расспросы времени не оставалось.
– Я сильно опоздал?
Она кивнула на дверь «алькова», сморщилась, и, лязгнув зубами, зарыдала в голос.
– Что случилось?
– Мы разво-одимся-я-я…
– Потом поговорим, – пообещал я и ринулся к начальству.
В «алькове» было так накурено, что сначала я смог различить лишь смутные силуэты.
– Опаздываете, молодой человек! – голосом Шуваева укорил меня один из силуэтов.
– «Он трех коней загнал, но в сро-о-ок донос доста-а-ви-и-л!» – запел второй, вскочив с дивана. – Жоржик, ты как самый молодой давай-ка – открой форточку!
– Сейчас…
В тумане я налетел на угол двухтумбового стола, встал на подоконник и, едва дотянувшись, впустил свежий воздух. Видимо, при царе форточку открывали лакеи. В комнате посвежело, развиднелось, да и глаза привыкли к никотиновому туману. Шуваев и Лялин были оба в темно-серых костюмах, белых рубашках и галстуках: явно ходили куда-то на ковер. Правда, модник Папикян повязал галстук цвета взбесившегося хамелеона, гармонировавший с его крашеными волосами, отливавшими фиолетовыми чернилами, какими я писал в начальной школе.
– Ты готов, мой мальчик? – спросил он.
– Всегда готов. А что нужно делать?
– Сначала подумать! – хмуро молвил третий участник совещания – Бутов – сотрудник КГБ с ранними залысинами и рыжими усами.
– А вот это правильно, Викторович Павлович, – согласился Шуваев.
В отличие от партийцев чекист одет был легкомысленно: клетчатая рубашка-апаш, вельветовые брюки и вязаная кофта на больших пуговицах. Иногда я встречал его на наших писательских собраниях. Обычно Палыч сидел в заднем ряду, слушал ораторов с недоверчивой усмешкой и что-то записывал. Видимо, истощив весь карательный запал в суровые тридцатые годы, сотрудники органов в позднее советское время отличались какой-то вялой бдительностью и иронией. Бутов курировал и нашу комсомольскую организацию. Раз в год, по какому-то своему графику, он звонил мне:
– Георгий, надо бы встретиться.
– Как обычно?
– Да, в нижнем буфете.
Если я припаздывал, то заставал его за чтением испанской газеты: наверное, учился-то Палыч на шпиона, но что-то не заладилось. Мы пили кофе. От коньяка он неохотно отказывался: служба.
– Ну и как тут у вас дела? – грустно, словно заранее предвидя неприятности, спрашивал куратор, кладя перед собой ручку и ежедневник.
– Да ничего вроде бы – скрипим помаленьку.
– ЧП никаких не намечается?
– Как будто бы нет…
– В Израиль никто не намылился?
– Свят-свят!
…Полгода назад мы исключили из комсомола, как положено по уставу, молодую отзывчивую Ирку Фонареву, она писала стихи под псевдонимом Анна Вербина и охотно постельничала со всеми, кто интересовался. Я избежал ее расположения потому, что Шуваев, благословляя меня на пост комсорга, строго предупредил: своих девок не трогать – затаскают потом! И вдруг Ирка с родителями подала документы на выезд. После исключения мы до закрытия ресторана отмечали это событие всем активом, напились в хлам, признавались друг другу в любви и пели, обнявшись, «Русское поле» – композитора Яна Френкеля на слова Инны Гофф. Фонарева плакала и клялась, что перед тем, как навсегда сгинет в Земле обетованной, обязательно съездит в Елабугу, где удавилась великая Марина Цветаева. Еще она предлагала любому желающему немедленно на ней жениться (можно и без секса), чтобы на правах мужа тоже свалить на Запад. Никто не откликнулся.
– Если что, мой номер у тебя есть, – выслушав, напоминал Палыч.
– Стучите по телефону?
– Вот именно. А правда ли, Георгий, что поэт Соснов живет с поэтом Зининым?
– Похоже на то… А что случилось?
– Да вот, жена Соснова накатала нам телегу, просит вернуть мужа в семью, к детям… – объяснял Бутов, рисуя в еженедельнике чертика.
– Вам написала?
– Нам, нам.
– Обычно про это в партком пишут, в крайнем случае – в райком.
– Она и туда писала. Но ей ответили, что оба поэта в КПСС не состоят, а в личную жизнь беспартийных после двадцатого съезда партия не лезет.
– А вы?
– Мы? Посадить за мужеложество, конечно, можно, есть такая статья в УК, но там, на зоне, ребят совсем уж испортят. – Палыч с тоской косился на стойку, где барменша мерным стаканчиком разливала по рюмкам водку.
– «Очнись от дум, мой витязь светлоокий, и чресла опояшь мечо-ом була-атным!» – пропел Лялин.
– Так что же делать будем, Виктор Павлович? – спросил Шуваев.
– Звонить надо Ковригину, в партком вызывать.
– Это правильно! – согласился Папикян и хотел снова запеть, но чекист сморщился. – Коль, отдохни от вокала. Дело серьезное. Звони, Жорж, пора!
– Я? – похолодел я.
– А кто же? – удивился Бутов. – Ты председатель комиссии, тебе и звонить.
– И что я скажу?
– Скажешь, что его вызывают в партком. Коротко и ясно, – разъяснил чекист. – Вперед за орденами!
– А если он спросит: «Зачем?»
– М-да, обязательно спросит… – покачал головой опытный Шуваев. – Я его хорошо знаю: въедливый мужик. Чисто купорос.
– Скажешь, у него взносы не заплачены… – как бы размышляя вслух, предложил Лялин.
– А если заплачены?
– Я таких писателей не знаю, у всех задолженности. Зарабатывают до хрена, а все равно жадничают, – с завистью заметил Палыч.
– Пожадничаешь тут… – вздохнул Лялин. – Я с последней книжки двести двадцать рубликов взносов заплатил. Финский костюм с ботинками можно купить!
– Где это ты возьмешь финский костюм за сто восемьдесят? – хмыкнул Бутов. – Минимум полсотни сверху отдашь.
– На закрытой распродаже.
– Ну, разве только…
– Звони, Егорушка! – отечески понудил меня Владимир Иванович. – Арина сказала, у него не уплачено за месяц. Пустяк, конечно, но повод есть.
– А если он спросит, почему я звоню, а не Арина?
– Как почему? Ты председатель комиссии по его персональному делу, – улыбнулся Лялин и запел: «Бей в барабан и не бойся, целуй маркитантку звучней!»
– Коля, ты не похмелился с утра? – сердито перебил Шуваев. – Какая маркитантка, какая комиссия? Ковригин еще ничего не знает. Вот что, Егор, скажи: тебе поручили обзванивать неплательщиков. Технический секретарь не справляется. Ну, кажется, все предусмотрели – звони, орелик!
Я набрал номер, сверяясь с подсунутой мне бумажкой, потом ждал, слушая мучительные гудки.
– Слушаю вас, – отозвался тяжелый мужской голос, оторванный от чего-то важного, скорее всего, от рукописи.
– Здравствуйте, Алексей Владимирович, вас беспокоят из парткома.
– Чему обязан? – удивился он, окая.
– Вы не могли бы приехать в партком?
– Когда?
– Когда… – Я вслух повторил вопрос, словно бы в раздумье.
– Как можно быстрее! – шепотом подсказал Лялин.
– Как можно быстрее, Алексей Владимирович, – скорбным эхом повторил я.
– Не мог бы. Уезжаю. Домой. В деревню. А в чем дело-то?
– У вас взносы не уплачены.
– Не может того быть! Я всегда за год вперед плачу. Проверьте!
– Ах, вот как…
– Именно так, голубчик! – Оканье приобрело недружелюбный оттенок. – Мне обычно Аринушка звонит. А вы-то, собственно, кто такой?
– Я?
– Вы.
– Полуяков.
– Не знаю такого.
– Я новенький.
– А раз новенький, у Аринушки спросите. Я в январе за год отвалил, полдня считала.
– Хорошо. Спрошу. До свиданья!
– Будьте здоровы!
И пошли гудки.
– Ну?! – в один голос вскричали все трое.
– У него взносы за год вперед уплачены.
– Это нарушение! – нахмурил кустистые брови Лялин.
– Его в Москве почти не бывает – то в деревне, то за границей. Ты столько голых баб в жизни не видел, сколько он – стран! – объяснил Шуваев и крикнул: – Арина!
Появилась заплаканная секретарша.
– Что ж ты мне, трындычиха, не сказала, что Ковригин за год вперед заплатил?
– Заб-ы-ыла…
– А куда ж ты его взносы девала? Профукала!
– По другим должникам раскидала… Когда они долги гасят, я за Ковригина вношу.
– Оч-чень серьезное нарушение! – вздернул крашеные брови Лялин.
– Да ладно тебе, – отмахнулся Шуваев. – А почему за август не внесла?
– Забы-ыла!
– Дура, сгинь с глаз моих!
– У-а-о-у! – зарыдала несчастная и скрылась за дверью.
– Зря ты так, Володя! – упрекнул Лялин. – У девушки горе.
– Правда, что ли, муж ей изменил? – после тяжелого молчания спросил, явно сожалея о своей резкости, Владимир Иванович.
– Правда, – скорбно кивнул Папикян.
– С лучшей подругой… – добавил, осклабясь, осведомленный чекист.
– Ну, если даже от таких девок налево бегают, тогда я вообще ничего не понимаю! – развел руками секретарь парткома.
15. Советские люди
С аппаратом окаянным
Некогда ни спать, ни есть.
Брешут, что за океаном
Секс по телефону есть…
А.
Некоторое время курили, соображая, что же теперь делать. Шуваев вскрыл коробку «Беломора». Лялин, щелкнув золоченой зажигалкой, дал огоньку секретарю парткома, а сам запалил душистый «Аполлон-Союз», совместное изделие «Явы» и «Филипп-Мориса», последний привет от разрядки, накрывшейся после сбитого корейского «Боинга». «Аполлон» давно из продажи исчез, и доставали его через знакомых. Бутов хмуро вынул из кармана зеленую пачку недорогих сигарет «Новость», их, по слухам, предпочитал покойный генсек Брежнев, пока врачи ему не запретили. А я задымил «Стюардессой», купленной специально для Леты. За окном под печальный вой духового оркестра из Театра киноактера выносили гроб.
– Кого хоронят? – спросил Папикян.
– Михаила Болдмана, – вздохнул партсек.[1]
– Какого Болдмана? – не понял Лялин.
– Который в «Поднятой целине» Макара Нагульного играет.
– Еврей – Нагульного? Ты что-то путаешь…
– Ты антисемит, что ли? – усмехнулся Палыч. – Быстрицкая-то Аксинью играет – и все довольны. С чего ты, Коля, взял, что Бол-ду-ман – еврей?
– Из фамилии. В баню я с ним не ходил.
– Успокойся, он из немцев. Трижды лауреат Сталинской премии.
– Ты-то откуда знаешь?
– Я одно время Союз кинематографистов курировал… – Бутов встал и подошел к окну. – Много народу-то собралось…
Мы тоже сгрудились у подоконника: на ступеньках толпились грустно одетые коллеги усопшего, черными розами казались шляпки театральных старушек. Прохожие останавливались и глазели на вынос тела, переговариваясь с унылым любопытством: чужие похороны – это, в сущности, – всего лишь репетиция твоих собственных. Духовой оркестр сотрясал стекла медным отчаянием. Безнадежно ухал большой барабан, плакали флейты. За венками несли гроб в красную оборочку. Вдруг провожающие захлопали в ладоши.
– У актеров так принято, – перехватив мой удивленный взгляд, объяснил Бутов. – Им же всю жизнь хлопают. Вот и – напоследок.
– Нас тоже так когда-нибудь… – вздохнул Лялин, – вынесут и забудут.
– Даже раньше, чем ты думаешь, Коля. А в некрологе напишут: гнобил великого русского писателя Ковригина. Э-х! – Шуваев ввинтил окурок в пепельницу.
– Не расслабляться, товарищи офицеры! Владимир Иванович, что за пораженческие настроения? – нахмурился чекист. – Ничего не поделаешь: надо колоться. Вот что, председатель, звони-ка снова и скажи так: в партком приглашают в связи с тем, что у нас тут его рукопись «Крамольных рассказов». Хотим послушать объяснения.
– А тебе, Виктор Павлович, это точно разрешили? – уточнил Лялин.
– Да, как второй вариант.
– Может, все-таки согласуешь?
– Это у вас все надо согласовывать, а у нас в конторе начальство людям доверяет.
– Тогда звони, Жоржик! – подтолкнул меня к телефону парторг и пропел: «Рассейтесь, страх и морок слабодушья, восстань, герой, и подвиг соверши-и-и!»
– Неловко как-то!
– Егор батькович, – посуровел Шуваев, – не молодухе под подол лезешь – выполняешь ответственное партийное поручение!
Но было видно, что ему и самому все это не по душе. Я с тяжелым сердцем снова набрал номер.
– Слушаю вас! – примерно через тот же промежуток ответил классик.
– Извините, Алексей Владимирович, это снова Полуяков…
– Слушайте, Полуяков, а вы, собственно, кто такой? – Его оканье стало еще недружелюбнее.
– Я же сказал: член…
– То, что вы член, я уже понял. Чем еще занимаетесь?
– Писатель.
– Сомневаюсь. Писатели пишут, а не трезвонят по пустякам занятым людям. Что вам еще от меня нужно?
– Хотел принести извинения. Мы выяснили: взносы вы заплатили.
– Я вас прощаю.
– Но в партком мы просили бы вас все-таки зайти.
– Зачем?
– Видите ли, у нас тут рукопись ваших «Крамольных рассказов».
Партсек, парторг и чекист, словно кони в упряжке, одновременно кивнули головами, одобряя мои слова.
– А откуда она у вас? – после долгой паузы мрачно спросил классик.
– Откуда у нас ваша рукопись? – нарочно громко переспросил я, чтобы тройка могла сориентироваться в ситуации.
– Вы, Полуяков, плохо слышите? – разозлился Ковригин.
– В телефоне что-то трещит. Вы спросили, откуда у нас рукопись?
– Вы еще в третий раз повторите, умник! – взревел догадливый крамольник.
Лялин, играя крашеными бровями, сначала показал пальцами шагающего по столу человечка, потом изобразил костяшками стук в дверь и протянул мне воображаемую посылку.
– Нам ее принесли…
– И кто же?
– Кто принес?
– Слушайте, Полуяков, хватит переспрашивать! Если Шуваев рядом, лучше дайте ему трубку.
– Владимиру Ивановичу? Дать трубку? Простите, не расслышал…
Секретарь парткома замахал руками так, словно на него напало стадо шершней.
– Его здесь нет, – залепетал я. – Он в правление, кажется, ушел. Я тут один в кабинете. А рукопись принес нам курьер…
Все трое переглянулись и заулыбались, оценив мою находчивость.
– Откуда курьер-то? – с ненавистью проокал Ковригин. – Из какой такой организации?
– Откуда курьер, говорите? Из какой организации?..
Тут замотал головой Бутов, приложив палец к усам, и получилась буква «Т» с обвислыми краями.
– Я не могу вам этого сказать.
– Вот когда сможете, тогда и звоните! – рявкнул деревенщик и швырнул трубку.
Мне сильно шибануло в ухо, как в армейской юности, когда я был заряжающим с грунта и наша самоходная гаубица «Акация», присев в синем дыму, лупила из-за бруствера вдаль сорокакилограммовыми снарядами.
– Ну? – осторожно спросил Бутов.
– Интересуется, откуда у нас рукопись.
– Что делать? – заметался Лялин. – Что делать?
– Имеет право, – пожал плечами Владимир Иванович, глядя в окно. – А венков-то много. Все еще выносят…
– Да ну вас… – Чекист придвинул к себе телефон и дернул плечом, давая понять, что хочет поговорить без свидетелей.
– Ты же сказал, тебе доверяют! – поддел Шуваев.
– Ладно острить-то! – буркнул Палыч.
Мы вышли в каминную. Арина уже справилась с рыданиями, но сидела заплаканная и бледная, как вдова после похорон. Папикян погладил ее по голове и пропел:
– «Утри слезу, невинная девица, И над твоей судьбой взойдет денница!»
Но она словно ждала именно этого, чтобы вновь зареветь в голос.
– Иди умойся! – приказал Шуваев. – Еще раз нахимичишь со взносами – вы… порю…
Владимир Иванович явно хотел сказать «выгоню», но с Арининым отцом он дружил и вместе рыбачил. Секретарша, всхлипывая, ушла. В открывшуюся дверь на миг проник жующий гомон ресторана.
– Она разводится, – пояснил я.
– Чепуха! Все разводятся. Мы вот с тобой великого писателя губим, а я не плачу.
– «Но ты же советский человек…» – забасил Лялин.
– Коля, я тебе сейчас чернильницей в лоб дам!
– Вова, пей пустырник!
– Заход-ите! – позвал, выглянув из «алькова», чекист.
Мы зашли.
– Ну?
– Доложил как есть, – глядя на телефон с тоскливым уважением, сообщил Палыч. – Сказали: посоветуются и перезвонят. Но пока надо кое-что обсудить… – Он с недоверием посмотрел на меня.
– Ох, что-то сердце жмет, – поморщился Владимир Иванович. – Терпи, маленькое мое! Егорушка, не в службу, а в дружбу, скажи-ка Алику, пусть принесет сюда кофе и коньячок.
– Три кофе и три коньяка! – уточнил Бутов.
– По сто пятьдесят! – добавил Лялин.
– По сто, – мягко поправил секретарь парткома. – И погуляй, Егорка, минут десять, ладно? Не серчай! Ты молодой, необстрелянный, успеешь еще в государственных тайнах вымазаться.
16. Был ли секс в СССР?
Нет в прошлое возврата,
Нет на башке волос.
Теперь зовем развратом,
Что юностью звалось…
А.
«Ага, как Ковригину звонить и дураком меня выставлять, так – иди сюда, а как серьезный разговор – п-пшел погуляй!» – кипел мой разум возмущенный.
Выполняя приказ, я остановил Алика, с отвращением тащившего поднос грязной посуды, и передал ему распоряжение начальства.
– Ага, вот сейчас все брошу!.. – вскипел он.
– Просили побыстрей.
– Быстро только кролики сношаются.
– Тебе видней.
– Хам!
Я огляделся и увидел несчастную Арину. Она сидела за столиком, как «Любительница абсента», обхватив кудрявую голову одной рукой. Другая бессильно лежала на столике, в наманикюренных пальцах дрожала длинная импортная сигарета – дымок от нее вился наподобие арабской вязи. Перед брошенкой стоял ополовиненный бокал вермута.
– Ну, и в чем дело? – спросил я, подсаживаясь.
– Я не дура! Он же сам мне сказал – взносы раскидывать так, чтобы в райкоме не ругались за недоплату. Шагинян тоже с рюкзаком приползала. Вывалит на стол, а ты считай! Спрашиваю: «Мариэтта Сергеевна, с какой суммы платите?» А она мне: «Да, Ариша, очень много машин на улицах стало, а я еще конку помню!» Ни черта не слышала, старая сова.
– Зато писала до последнего. А с мужем-то у тебя что?
– Разводимся.
– Вы только поженились. Что случилось-то?
– Я точно ду-у-ура! – сквозь слезы созналась она, с чем мысленно пришлось согласиться: среди писательских дочек умных немного.
– Мы напились…
– В первый раз, что ли?
– Нет, не в первый. Но ко мне приехала Ленка Сурганова. Мы в школе вместе учились. А Ник привез ящик «Напареули» из командировки.
– Принесла бы попробовать.
– Мы все выпили. Извини.
– Ну и?
– Трепались о том о сем… Про секс тоже поговорили… Ленка, дура, спросила Ника, спал ли он хоть когда-нибудь сразу с двумя телками. Он: «Никогда». Она: «Хочешь попробовать»? Он: «Хочу».
– А ты?
– Я смеялась. Мы же еще и покурили. Главное, не помню, что потом делала.
– А что такого уж особенного ты могла делать?
– С Сургановой? Все что угодно. Она же повернутая на этом, «крези лав машин». А утром Ник сказал, что мы обе б… и он с нами… со мной разводится.
– А зачем тогда на «групповуху» согласился?
– Я его тоже про это спросила. Он говорит, хотел узнать, насколько я развратна.
– Узнал?
– Узн-а-а-ал…
– М-да.
Я вообразил, как в нечто подобное пытаюсь втянуть Нину. Ответом был бы удар хлебным ножом ниже пояса или горячим утюгом в висок. Насколько все-таки жена с техническим образованием надежнее растленных творческих дам!
– Утопчется, – неуверенно успокоил я Арину. – Напирай, что он сам захотел, ты была без сознания, совершенно беспомощная, а он с Ленкой этим гнусно воспользовался.
– Думаешь?
– Уверен. Главное разбудить в муже чувство вины, потом делай с ним что хочешь. – Я глянул на часы и поспешил в партком.
Там витал веселый дух настоящего армянского коньяка. Рюмки были пусты. Все трое напряженно курили, пили кофе и смотрели на телефон так, словно аппарат вот-вот должен был снести золотое яйцо. Грянул звонок.
– Бутов на проводе… Понял… По-онял. Есть – выполнять!
Он уважительно положил трубку на рычажки, вытер платком лоб и повернулся к Шуваеву:
– Владимир Иванович, звонить будешь ты.
– Но…
– Не обсуждается. Легенда такая: рукопись бдительный гражданин нашел в электричке, ужаснулся и отнес куда следует.
– А на самом деле?
– Не важно. Почти так оно и было. Понял?
– Не поверит.
– Да и хрен с ним. Но! – Чекист поднял палец. – Скажешь ему: Комитет государственный безопасности и горком в курсе.
– А ЦК? – тихо спросил Лялин.
– О ЦК речи пока нет. Звони!
Бедный Шуваев побледнел, думая, наверное, что зря переехал из Молдавии в Москву, подержался за сердце и неохотно набрал номер, зачем-то притормаживая пальцем диск. Ковригин отозвался сразу, видимо, ждал звонка.
– Леша, это я… Володя… Не узнал? Богатым буду… Полуяков? Нет, он вовсе не мудак. Просто у него такое поручение… Ладно, прибереги остроумие, оно тебе еще понадобится… Я не пугаю, советую по-дружески. В общем, так: твои «Крамольные рассказы» у нас… Да, вот так – принесли бдительные граждане… Я тебя и не собираюсь смешить. КГБ и МГК в курсе. Понял? Завтра тебя ждем… Нет, мил друг, деревню придется отложить. Ты не понимаешь, как все серьезно… Да, рассказы твои мне нравились, местами… – Шуваев с вызовом посмотрел на чекиста. – Но зачем разбрасывать их в электричках? Ты – коммунист, а не космополит с бубенчиками… Не ты их забыл в электричке? А кто, Святой Дух?.. Не юродствуй! Ждем тебя завтра в двенадцать ноль-ноль… Ах, ты еще поработать с утра хочешь! Ну, поработай, поработай! В три тебя устроит?.. Не опаздывай, Алексей Владимирович!
Секретарь парткома положил трубку и несколько раз прерывисто вздохнул, собрав синие губы в трубочку. Взявшись одной рукой за сердце, другой он отпер несгораемый ящик, достал оттуда початую бутылку коньяка, наполнил пустые рюмки, а мне налил в пыльный граненый стакан, стоявший рядом с замшелым графином.
Лялин запел:
– «Поднимем бокалы и сдвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!»
– Заткнись ты, Коля, твою мать! – рявкнул Владимир Иванович.
– Володя, будешь все принимать близко к сердцу – вынесут тебя, как Болдумана! – возразил, нисколько не обидевшись, парторг.
– К этому все идет…
– Но пока тебя, Володя, еще не вынесли вперед ногами, нам надо набросать список комиссии. А то ведь как выходит: председатель у нас уже есть, а комиссии еще нет. Непорядок. Так ведь, Жорж? – Папикян с насмешкой посмотрел на меня.
– Та-ак…
– У тебя, наш юный инквизитор, есть какие-то предложения?
– Не-ет.
– И правильно! Старшим надо доверять.
– …Но проверять, – выпив, добавил Бутов.
– Хватит издеваться над парнем. Он и так ни жив ни мертв. Ты ступай, Егорушка. – Шуваев махнул рукой на дверь. – Займись газетой. И будь на телефоне. По первой команде – ко мне. Понял?
– Понял.