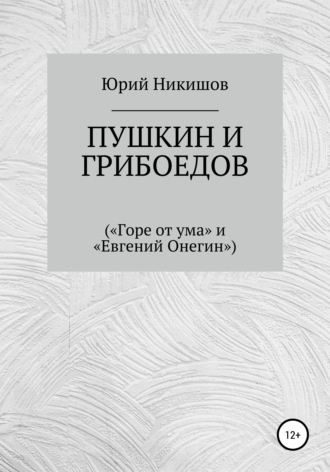
Юрий Михайлович Никишов
Пушкин и Грибоедов («Горе от ума» и «Евгений Онегин»)
Время идет – негодование не остывает. 3 июня: «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la letter <буквально>. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilité de la famille) невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя…» Наконец, 30 июня поэт обращается к жене с жалобной просьбой: «Пожалуйста, не требуй от меня нежных, любовных писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции и так далее – охлаждает меня, и я поневоле сух и скучен». Произвол полиции много крови попортил поэту, добавил горечи разлуке с женой.
Пришлось выговаривать жене сначала за намерение, а потом и за поездку с сестрами в Калугу: «Что тебе смотреть на нее?» «Это тебя сестры баламутят…» (11 июня). Что в итоге? «Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно играющих старую, скверную оперу? Что за охота останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть с чернию губернский фейворок…» (3 августа). Тут уж пахнуло даже не московской, а вовсе провинциальной барышней. А Пушкин в том же письме (!) и сердится, но совсем чуть-чуть: «Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да, видно, уж у тебя такая натура». Но таков фон, а жена всюду хороша: «Что-то Калуга? Вот тут поцарствуешь! Впрочем, женка, я тебя за то не браню. Всё это в порядке вещей; будь молода, потому что ты молода – и царствуй, потому что ты прекрасна» (14 июля).
А жене захотелось помочь сестрам в устроении их жизней, она задумывает везти их в Петербург. Пушкина это намерение огорчает: «Охота тебе думать о помещении сестер во дворец. Во-первых, вероятно, откажут; а во-вторых, коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб пускаться в просительницы. Погоди; овдовеешь, постареешь – тогда, пожалуй, будь салопницей и титулярной советницей. Мой совет тебе и сестрам быть подале от двора; в нем толку мало. <…> Но вы, бабы, не понимаете счастия независимости и готовы закабалить себя навеки…» (11 июня).
Предельно отчетливо обозначает Пушкин свою позицию 14 июля: «эй, женка! смотри… Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети – покамест малы; родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься и семейственного спокойствия не будет». Пушкин проницателен. Наталья Николаевна его не послушалась. А в том же письме поэт оставляет решение за женой: «Если ты в самом деле вздумала сестер своих сюда привезти, то у Оливье оставаться нам невозможно: места нет». Мало того, он до своего отъезда к жене организовал и переезд в новое жилье.
Какой «печалью» это покровительство обернулось для Пушкина?
Тем же летом поэт не только обдумывал, но и предпринял демарш с выходом в отставку. Царь отставку принял, но с запретом работы в архивах. Поэт прошение об отставке отозвал.
Считается, что отступной поступок Пушкина вызван угрозой отлучения от архивов. Что и говорить, архивы для художника – важный источник вдохновения. Но цензурная история с «Борисом Годуновым», но запрет на печатание «Медного всадника» – не отчетливые ли это знаки для поэта, что его архивные изыскания пройдут впустую? (Когда много лет спустя возник вопрос о напечатании собранных Пушкиным материалов к Истории Петра, царь дал разрешение печатать их только при условии целого ряда сокращений). Пушкину в деревне и без архивов было о чем писать. Чем бы занималась Наталья Николаевна? Поэт намекал: «Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены» (29 мая). Альтернатива – блистание на балах высшей пробы. Так что сообщая жене о том, что отзывает прошение об отставке, поэт замечает: «А ты и рада, не так?» (14 июня). Еще бы ей не радоваться!
А Пушкин добродушно подсмеивается над женским предназначением: «Какие же вы помощницы и работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать. И за то спасибо» (около 26 июля).
Пушкин никогда не говорил, что не ушел в отставку ради жены, но он сделал это, потому что обещал сделать ее жизнь достойной ее молодости и красоты. И в этот раз писал ей: «Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами» (8 июня). Все-таки тут налицо противоречие интересов: поэт мечтает о деревенском уединении, а для жены это нож острый. Пушкин уступил интересам жены.
Как не отметить неуемную жадность читателей (да и исследователей): избалованные обилием и качеством произведений, созданных Пушкиным в Болдине в 1830 и 1833 годах, они удивлены, что в 1834 году, когда поэт, в сознании которого всегда был преизбыток замыслов, приехал в Болдино специально поработать, а по возвращении привез «всего лишь» «Сказку о золотом петушке».
Тут, похоже, в творческом поиске вообще шаг назад. Поэт рассказал сказки о царе Салтане и о мертвой царевне – кончал их присказкой, как у сказителей принято: «Я там был; мед, пиво пил – / И усы лишь обмочил». Пофантазировал поэт в народном духе – на том спасибо. А тут: «Сказка ложь, да в ней намек! / Добрым молодцам урок». Назидательными уроками литературы мы уже в классицизме насытились. Так ведь и Пушкин в стихотворении «Поэт и толпа» такую ситуацию изображает с едкой иронией. Здесь «чернь тупая» даже снисходит до просьбы: «Ты можешь, ближнего любя, / Давать нам смелые уроки, / А мы послушаем тебя». (Послушаем – не значит: услышим тебя да на ус намотаем). Поэт непреклонен: «Подите прочь – какое дело / Поэту мирному до вас!»
Но всякое подозрительное и скептическое отношение к сказке о петушке решительно противоречит пушкинскому отношению к этому произведению. С. А. Фомичев обратил внимание, что беловой автограф сказки завершен пометой: 20 сен<тября>, 1834, 10 ч<асов> 53 м<инуты>, заметив: «Нельзя не почувствовать в точной (вплоть до минуты) фиксации окончания работы – особого авторского удовлетворения сделанным»159. К подобному уточнению Пушкин прибегал чрезвычайно редко.
Понять смысл нового обращения к жанру помогают записи Пушкина михайловских сказок. Среди них есть такая. Возвращающийся с войны царь попал в ситуацию, разрешить которую смог только обещанием подарить то, чего он не знает. Самонадеянный царь решил, что знает всё. А в его отсутствие царица родила сына… Здесь прецедент: оппонент знает свежую новость, играет без промаха, он – провокатор.
Только задним числом, после прочтения, при обдумывании ситуации (и то – не сразу) и в сказке о петушке становится очевидным, что благодетель-звездочет не добряк, а тоже провокатор (он-то, в отличие от обыкновенных смертных, умеет заглядывать в будущее). И чудодейственный петушок устроен с запасом чуткости:
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной –
петушок вмиг прореагирует. А какая «опасность» или «беда» в визите (не во вторжении с войском) Шамаханской царицы? У звездочета оказались свои виды на царицу. Видимо, и у волшебства есть границы возможностей: вот и владение царицей потребовало условия не завоевания, а дарения. Но звездочету не хватило умения определить меру вздорности царя (да и усмотреть свою преждевременную кончину). Дадон обещал исполнить, как свою, первую волю хозяина петушка. Так ведь и исполнил бы, если бы эта воля соответствовала его, царскому, разумению.
Не будем вникать в подробности обрисовки конфликта в «Сказке о золотом петушке». Подчеркнем его универсальность. Любое решение, устремленное в будущее, всякий человек неизбежно принимает по неполным данным; оно опирается на его волю. Но встретятся обстоятельства, способствующие или препятствующие достижению поставленной цели; что выпадет на долю человека в результате – определить невозможно. Пушкин размышлял об этом и как публицист: «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном <=звездочет!> и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия провидения».
Решение, устремленное в неясное будущее, всегда принимается по неполным данным. Это ли не откровение? Да еще такое универсальное. Правило, в котором нет исключений. Оно и не воспринимается в таком значении именно в силу своей обиходности. Но не в том ли и состоит мудрость художника, что он в обыкновенном прозревает непривычное?
А в сказке о петушке еще и много личного, но тут сходство с различием – рука об руку: личное запрятано очень глубоко. Сам жанр не претендует на жизнеподобие: «Сказка – ложь…» Идейная основа – и та почерпнута в фольклоре. А принять во внимание личные обстоятельства – видно, что сказка писана едва ли не в первую очередь для себя.
Судя по письмам из Болдина, настроение у поэта спокойное. Жену повидал, а без нее уже опять скучно. Есть деловые заботы, но они не изматывающие.
Сказки часто (не исключая пушкинские) в финале задают пир на весь мир. Тут необычная концовка, но дело еще в том, что сюжет предельно драматичен. Некому пир устраивать: царство, похоже, осталось без наследников! Да и многие ли семьи обошлись без горя: ведь две рати полегли, да как аккуратно. Братья-предводители, допустим, устроили поединок как соперники. Но ратникам из-за чего стараться – а все убиты, ни одного раненого или сбежавшего (не из трусости – из нелепости убивать своих же, среди которых и родные могут повстречаться).
А рассказ ведется бодрым тоном, с отчетливой ироничностью! Кого тут жалеть? Дадона, кому сладко царствовать, лежа на боку? Или звездочета с его непонятными, но как-то просчитанными провокационными замыслами?
А вместе с тем добрым молодцам урок. А им мало усмехнуться над незадачливыми персонажами. А перед каждым свои очень серьезные проблемы, которые во многом приходится решать наугад. И надо быть готовыми встретить неожиданные неприятности.
Для самого себя Пушкин не извлекал урока. Свою проблему он решил раз – и до конца. Он определил, в чем может найти счастье – и получил его. Горести поэта не удивили. Нельзя сказать, что он не чувствовал ударов жизни, но они не могли убить его любовь. Он стал сдержаннее выражать свои чувства, но не перестал их питать. По-видимому, Болдино-34 можно считать рубежом, на котором в семейной жизни Пушкина горести перевесили радости. Это личное тайное признание запечатано в «Сказке о золотом петушке». И надо отказаться от представления о третьей болдинской осени как о творчески бесплодной. «А все об вас думаю», – написал он жене не позднее 25 сентября 1834 года. Многое из этих раздумий сказано прямым словом, кое-что добавлено языком художественным. Художественным языком можно спокойно показать и такие ситуации, которые прямым словом обнажают только в случае разрыва отношений. Емкий художественный текст допускает варианты прочтения, включая даже такие, которые в качестве вариантов реализации исключаются. За «ложью» изображения просвечивает горькая правда жизни, которую нельзя выразить прямым словом. Поэт видит, что его погоня за счастьем заводит в тупик. Исправить ситуацию он не в силах. Он сохраняет спокойствие и мужество. И усмехается над персонажем, которому показалось, что можно легко и просто устроить безмятежную жизнь.
Какую компенсацию получил поэт за свою выдержку? Вопросы могут возникать любые. Но Пушкин решительно отстаивал право на семейственную неприкосновенность, и надо смиренно умолкнуть, когда наши размышления выходят на семейную тайну.
Пушкин давно и устойчиво взял на вооружение стоическую пословицу: не радуйся нашед, не плачь потеряв. В том же ключе он требует определить, способен ли человек противостоять несчастью. Когда такой возможности нет, надобно смириться. Отнюдь не просто было выполнять даже твердо принятые решения; требовалась незаурядная сила воли.
Не буду касаться дуэльной истории Пушкина: не этично мельком затрагивать трагическую страницу биографии поэта; к тому же я не располагаю «новыми документами», поясняющими ее. Сведения, исходящие от самого Пушкина, скупые. Жуковский, Вяземский, Соллогуб знали много, но сказали только то, что поддерживало версию поэта. Я хочу лишь представить выборку сказанного Пушкиным жене из книги «Разговоры Пушкина»160: здесь собраны высказывания поэта из воспоминаний разных лиц.
Ни слова упрека (даже косвенного) не адресованы жене. «Первые слова его жене… были следующие: “Как я счастлив! Я еще жив, и ты возле меня! Будь покойна! Ты не виновата: я знаю, что ты не виновата…”» (с. 272). Еще было сказано жене: «Не упрекай себя моей смертью; это дело, которое касалось одного меня» (с. 282). Это – последовательная линия поведения поэта: всю тяжесть ответственности возлагать на себя. Он думал о жене даже среди своих невыносимых мук. Свидетельствует В. И. Даль: «Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно и на слова мои: “Терпеть надо, любезный друг, делать нечего, не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче” – отвечал отрывисто: “Нет, не надо стонать: жена услышит; и смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил, не хочу”» (с. 286). Последнее его напутствие ей: «Отправляйся в деревню, носи траур по мне в течение двух лет, потом выйди замуж, но только не за шалопая» (с. 288).
Вот действительная любовь, явленная в полном объеме. Она и сердечным словом выражается, но более – делом. Это чувство не для разового употребления, а длиной на всю оставшуюся жизнь. Неприятности бессильны погасить его. Человек жизнью заплатил, защищая честь жены и свою честь. Про чувство могучего размаха говорят: т а к а я любовь, больше, чем любовь…
* * *
В личных судьбах двух поэтов встретятся сходные компоненты, но больше принципиальных отличий.
Сердца поэтов, не спрашивая на то разрешения, запылали разом – и до конца. Ситуация Грибоедова была понятнее, проще: влюбленному не приходилось сомневаться, что избранная отвечает ему полной взаимностью. Ситуация Пушкина была сложнее, противоречивой: поэт понимал, что в глазах общества он для первой красавицы на языке того времени плохая партия – не богат, не чиновен, не красавец (даже ростом ниже невесты). Обещает устроить жене твердое положение в обществе, но в ответ надеется, что любовь блеснет улыбкой. Роль мужа-ширмы для развлечений жены исключена категорически.
Слишком краткий срок семейной жизни отвела судьба Грибоедову. Но даже тут беспокойный ум попробовал заглянуть в будущее и нарисовать темные картины; тут холодный рассудок перестарался; реальное поведение юной вдовы гарантировало гармоничную семейную жизнь.
У Пушкина была возможность поверить порыв вспыхнувшего сердца холодным рассудком. Поэт ясно понимал, что случай угадать невозможно, но наличие терний на избранном пути видел отчетливо и не испугался их. О своем выборе он только один раз высказался скептически – в письме к Плетневу 31 августа 1830 года (на пути в Болдино): «Чёрт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостию, которой обязан я был богу и тебе». Богу – за талант, другу – за прибыльное издание его творений. И все-таки ради счастья терпел и невзгоды. Ум с сердцем был в ладу.
Поэты, герои, декабристы
1
14 декабря – особенная и значительная дата в истории России. Думающему художнику в произведении, относящемуся к этому времени, стало обязательным реагировать на нее. Впрочем, прямым текстом затрагивать событие власти запретили строго-настрого. Но возможности художников велики.
«Горе от ума» тут при чем? Комедия написана до знакомства Грибоедова с лидерами декабристов. Но она была популярна среди декабристов. В Чацком они увидели единомышленника. Значит, ситуацию надо поделить надвое: отдельно рассмотреть и позицию Грибоедова, и подходы к пониманию главного героя комедии.
Был спорным и впредь таковым останется вопрос о степени осведомленности Грибоедова в происходящем. Комедия задумана (начата?) одиноким поэтом еще в Персии, два первых действия доведены до первоначального завершения в Тифлисе в общении с Кюхельбекером. Однокашник Пушкина по Лицею пострадал по делу декабристов, но в тифлисскую пору вряд ли знал об их существовании, тогда как взгляды, которые привели его на Сенатскую площадь, уже были при нем. Комедия завершена в усадьбе С. Н. Бегичева, который был членом Союза благоденствия, но отошел от него и к следствию по делу декабристов не привлекался. Два партнера Грибоедова отличаются своей осведомленностью, но трудно судить, имеет разница какое-либо значение: мы не знаем политического содержания разговоров поэта с друзьями. Общения автора комедии с либералами отрицать не будем, но этой констатацией и ограничимся. К тому же Чацкий у Грибоедова не срисован с кого-либо из существовавших реально, а рожден воображением художника, причем весь сразу.
Все шире распространяется убеждение, что власть художника над своим произведением заканчивается его публикацией. А дальше его образы оживают в сознании читателя и получают такой вид, какой им, читателям, нравится. Но разве отменяется задача понять позицию авторов? У нас-то они оба художники достоверно достойные, признанные.
Б. Голлер (надуманно истолковавший образ Софьи) ситуацию Чацкого характеризует точно: «Грибоедов не писал, конечно, и никакого “декабриста”. Паче декабриста определенного этапа движения. (Да и мудрено было задумать такой образ в Персии – в 1820 году). Автор “Горя от ума” просто, что называется, “угодил в тип”. Это декабристы в большинстве оказались похожи на Чацкого. Так бывает с немногими истинными произведениями искусства. Которые, как ток высокой частоты, – пронизывает дух Времени»161.
У Грибоедова завязались дружелюбные отношения с Рылеевым и другими деятелями Северного тайного общества, но тогда, когда «Горе от ума» было уже закончено. Комедия оказалась визитной карточкой поэта, декабристы желали бы видеть автора в своих рядах. Но Грибоедов не стал декабристом162.
Не добавляет ясности широко используемое категоричное определение позиции поэта устами его друга А. А. Жандра. С. А. Фомичев в грибоедовской «Энциклопедии» приводит его дважды, им заканчивая биографическую статью о Жандре и подробнее излагая в статье «Легенды о Г<рибоедове>» («Сто прапорщиков»). Здесь приводится мнение собирателя материалов о Грибоедове его двоюродного племянника Д. А. Смирнова, который считал, что Грибоедов «собственно не принадлежал к заговору <…> уже потому не принадлежал, что не верил в счастливый успех его. “Сто человек прапорщиков, – часто <?> говорил он, смеясь <?>, – хотят изменить весь государственный быт России”. Но он знал о заговоре, может быть, даже сочувствовал желанию некоторых перемен…». Естественно, что Смирнов поинтересовался у Жандра: «Очень любопытно… знать настоящую, действительную степень участия Грибоедова в заговоре 14 декабря». – «Да какая степень? Полная». Это удивило Смирнова, он озвучил фразу о ста прапорщиках. Жандр подтвердил: «Разумеется, полная. Если он и говорил о 100 человеках прапорщиках, то это только в отношении к исполнению дела, а в необходимость и справедливость дела он верил вполне»163.
С. А. Фомичева больше устраивает краткое изложение отзыва Жандра: «Принципиально важно уверенное свидетельство прекрасно информированного Ж<анд>ра о “степени” участия Г<рибоедова> в “заговоре 14 декабря”: “Да какая степень? Полная”» (с. 187). Между тем чрезвычайно сложную многоаспектную ситуацию невозможно охватить одним словом. «Полного» единства не было не только между реальными участниками движения, но даже между Северным и Южным обществами. Не было единства в вопросе принципиального значения о будущем государственном строе России – монархическом или республиканском.
«Легенду» о прапорщиках исследователю хотелось бы вовсе вычеркнуть: «В любом случае апокрифическая фраза о “ста прапорщиках” не может служить сколько-нибудь серьезным аргументом в решении проблемы “Грибоедов и декабристы”. Нет никаких оснований сомневаться, что по тесным дружеским связям со многими декабристами Г<рибоедов> знал о целях и деятельности тайных обществ» (с. 222).
Заключительное утверждение бесспорно. И у Грибоедова было много общего со взглядами декабристов, особенно в оценке существовавшего в России положения. Но нет возможности (да и надобности) подсчитать процент совпадения взглядов, а совпадение было! Однако вступать в тайное общество Грибоедов не захотел – по той причине, что совпадение взглядов как раз не было полным. Грибоедов не верил в успех мятежа. Ведь и Жандр фактически сказал об этом, подтвердив сомнения друга «в отношении к исполнению дела». Раздраженная фраза о прапорщиках могла быть сказана, только не могла повторяться «часто»: о тайном не болтают. Решительно надо исключить насмешливый тон. Вероятно, это украшение добавлено задним числом, когда фраза пошла гулять в форме сплетни. Сказалась репутация автора-насмешника. Возможное поражение друзей рождало в Грибоедове скорбь, а ни в коем случае не смех. Найдем подтверждение этому в поведении поэта. С такой поправкой эмоций фразу о прапорщиках вполне можно оставить при постановке проблемы «Грибоедов и декабристы», учитывая дефицит прямых материалов по этой проблеме: констатация наличия сомнений в успехе дела – немаленькое добавление к оценке ситуации.
«Горю от ума» уже до двухсотлетнего юбилея рукой подать. И разве не удивительно, что на таком протяжении у исследователей не возникал вопрос: а как автор относился к своему главному творению?
Очевидная простота вопроса отталкивала? Но такое «Горе»: не единожды за кажущейся простотой ответа встает сложнейшая проблема. Грибоедов очень мало оставил суждений о своем творении? Это истина факта и активный повод разбираться (при дефиците материалов): почему так? Но покамест идет в ход единственная гипотеза: уж такое событие произошло в творческой жизни писателя; оно вобрало в себя весь его творческий потенциал, вычерпало полностью, ничего не оставило; Грибоедов оказался «однолюбом»…
Мало материалов о «Горе от ума» от Грибоедова сохранилось? Мал золотник, да дорог. Одно письмо к задушевному другу С. Н. Бегичеву чего стоит! Оно вместило целую историю отношения художника к своему творению. Автор-исполнитель сообщает, что испытывал подлинное авторское счастье, когда выступал с чтением своей комедии: «Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет». Грибоедов сетовал на то, что в театре аплодисменты достаются исполнителю, а не автору; тут одно и другое сливалось воедино. Получается, что в резко сокращенном виде, но поэт все-таки испытал «ребяческое удовольствие», произнося (и слыша) свои стихи как будто со сцены.
Но остается такое ощущение, что будто бы письмо писалось не за один присест: очень уж крутой поворот делает настроение автора! Впрочем, тут все подряд: об успехе чтений, но и чтения наскучили («так надоело все одно и то же» – даже развлекался импровизацией), а следом, без всякой паузы, неожиданное: «Ты, бесценный друг мой, насквозь знаешь своего Александра, подивись гвоздю, который он вбил себе в голову, мелочной задаче, вовсе не сообразной с ненасытностью души, с пламенной страстью к новым вымыслам <это же прямое опровержение гипотезы об «однолюбе»!>, к новым познаниям, к перемене места и занятий, к людям и делам необыкновенным. И смею ли здесь думать и говорить об этом? Могу ли принадлежать к чему-нибудь высшему? Как притом, с какой стати, сказать людям, что грошовые их одобрения, ничтожная славишка в их кругу не могут меня утешить? Ах! прилична ли спесь тому, кто хлопочет из дурацких рукоплесканий!!» А ведь речь идет не о пестрой театральной публике: чтения происходили в дружественной среде!
Писателю приходилось общаться не только с кругом друзей. Бегичеву, 4 января 1825, Петербург. «Вчера я обедал со всею сволочью здешних литераторов. Не могу пожаловаться, отовсюду коленопреклонения и фимиам, но вместе с тем сытость от их дурачества, их сплетен, их мишурных талантов и мелких душишек. Не отчаивайся, друг почтенный, я еще не совсем погряз в этом трясинном государстве».
Остается фактом: драматург разочаровался в театральной публике, что и прогнозировалось в набросках предисловия к комедии: «Но как же требовать» внимания «от толпы народа, более занятого собственною личностью, нежели автором и его произведением? Притом сколько привычек и условий, нимало не связанных с эстетическою частью творения, – однако надобно с ними сообразоваться. Суетное желание рукоплескать, не всегда кстати, декламатору, а не стихотворцу; удары смычка после каждых трех-четырех сот стихов; необходимость побегать по коридорам, душу отвести в поучительных разговорах о дожде и снеге, – и все движутся, входят и выходят, и встают, и садятся. Все таковы, и я сам таков, и вот что называется публикой! Есть род познания (которым многие кичатся) – искусство угождать ей, то есть делать глупости». Потому-то тернии достаются и автору, заискивающему успеха у публики.
Искренняя радость слушателей чтения комедии, конечно, грела душу автора, но чуть событие сдвинулось в область воспоминаний, очень быстро удовлетворение вытеснялось разочарованием: а ведь не поняли слушатели горького чувства, которое сулило название комедии!
Противоречивые чувства вызывали настигшие отголоски славы. Из Симферополя он пишет Бегичеву 9 июля 1825 года: «Наехали путешественники, которые знают меня по журналам: сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, веселый человек. Тьфу, злодейство! да мне невесело, скучно, отвратительно, несносно!.. И то неправда, иногда слишком ласкали мое самолюбие, знают наизусть мои рифмы, ожидают от меня, чего я, может быть, не в силах исполнить; таким образом, я нажил кучу новых приятелей, а время потерял и вообще утратил силу характера, которую начал приобретать на перекладных».
В добротности качества «Горя от ума» Грибоедов разочарований не испытывает. Подтверждает это написанное полгода спустя после успешных чтений письмо к П. А. Катенину. Писатель искренне благодарит друга за присланные замечания, но воспринимает их только как стимулирующие размышления, а свою позицию, занятую в комедии, упорно защищает. Настойчивыми были и его старания продвинуть «Горе от ума» на сцену и в печать. А вот когда пришла пора заканчивать длительный отпуск и возвращаться к месту службы на Кавказ, случились резкие перемены в его сознании.
Духовный кризис Грибоедова, поразивший его уста немотой, – не домысел исследователей, а реальность. Его пик – предшествовавшая восстанию декабристов осень 1825 года.
На Кавказ Грибоедов не спешил. Он три месяца путешествовал по Крыму. Были наилучшие условия для реализации новых творческих замыслов. Казалось бы, тут и ожидать прилива вдохновения: полная свобода, новизна впечатлений. Результат повергает в панику. О предельной остроте кризиса свидетельствуют письма писателя С. Н. Бегичеву.
9 сентября 1825 года. Симферополь. «Ну вот, почти три месяца я провел в Тавриде, а результат нуль. Ничего не написал. Не знаю, не слишком ли я от себя требую? умею ли писать? право, для меня все еще загадка. – Что у меня с избытком найдется что сказать – за это ручаюсь, отчего же я нем? Нем как гроб!!»
12 сентября 1825 года. Феодосия. «Прощай, милый мой. Скажи мне что-нибудь в отраду, я с некоторых пор мрачен до крайности. Пора умереть! Не знаю, отчего это так долго тянется. Тоска неизвестная! Воля твоя, если это долго меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением; пускай оно остается добродетелью тяглового скота. Представь себе, что со мною повторилась та ипохондрия, которая выгнала меня из Грузии, но теперь в такой усиленной степени, как еще никогда не бывало. <…> Ты, мой бесценный Степан, любишь меня… как только брат может любить брата, но ты меня старее, опытнее и умнее; сделай одолжение, подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди».
7 декабря 1825 года (неделя до восстания). Станица Екатериноградская. «На убедительные твои утешения и советы надобно бы мне отвечать не словами, а делами, дражайший мой Степан. Ты совершенно прав, но этого для меня не довольно, ибо, кроме голоса здравого рассудка, есть во мне какой-то внутренний распорядитель, наклоняет меня ко мрачности, скуке, и теперь я тот же, что в Феодосии, не знаю, чего хочу, и удовлетворить меня трудно. Жить и не желать ничего, согласись, что это положение незавидно».
Странные, непонятные мысли для человека, завершившего комедию, которую, правда, не удалось продвинуть ни в печать (кроме отрывка – старанием Булгарина), ни на сцену, но которая встретила среди ознакомившихся с нею оглушительный прием! Только Грибоедов не оглядывается назад; сделано – и сделано; все его устремления к новому, дальнейшему; тут мысли кипят – а на бумагу не ложатся.
О причинах такого странного и страшного состояния приходится говорить только предположительно – и все-таки уверенно. Причина этого внутреннего разлада мировоззренческая, политическая, – результат доверительного общения с видными деятелями декабристского движения. С декабристами у писателя много общего, это несомненно. Но что-то не позволило ему встать в их ряды.
Н. К. Пиксанов не причислял Грибоедова к числу политических энтузиастов: исследователь прав только наполовину. Грибоедов не был энтузиастом оппозиционного действия. Но он не был безразличным наблюдателем происходившего, напротив, он был пламенным энтузиастом как мыслитель.
Писателю-профессионалу было бы легче: у него широк круг интересов, можно было бы выбрать сюжет, который состояние не мешало бы разрабатывать. Но Грибоедов не был профессионалом, служба не допустила им стать даже на гребне успеха «Горя от ума». Оставалось прибегнуть к творчеству только для решения мировоззренческих задач, насущных для него самого. Писать сейчас неминуемо означало бы вступать в полемику с благородными современниками, карьеры, жизни не пожалевшими для обновления родной страны. Но бросить в них камень было этически поступком противопоказанным. На фоне жертвенности в решимости патриотов собственная благополучная жизнь теряла смысл: вот откуда мысли о самоубийстве. Или о безумии от наплыва таких мыслей.



