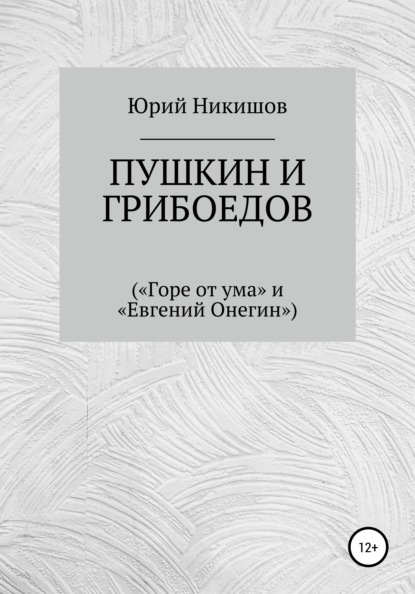 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Юрий Михайлович Никишов Пушкин и Грибоедов
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Юрий Никишов
Пушкин и Грибоедов («Горе от ума» и «Евгений Онегин»)
Человек пришел в мир,
чтобы сознать и сказать.
Из афоризмов Ф. Достоевского
Предисловие
Замысел этой книги необычный: на два шедевра русской литературы, создававшихся параллельно, посмотреть под едиными ракурсами. Так явственнее можно видеть как сходство, так и различие художественных приемов в период становления новой русской литературы.
Сравнение не ставит целью установить, какое произведение является «лучшим»: они разные, и оба хороши – по-своему. Такого рода сопоставимость предметов ничуть не обязательна. Пушкин иронизировал: «Хорошая эпиграмма лучше плохой трагедии… что это значит? Можно ли сказать, что хороший завтрак лучше дурной погоды?»
Меня больше всего привлекает содержание выбранных книг. Но к содержанию, можно видеть, подходят с разных сторон. Например, так: «В той или иной форме и в той или иной мере Грибоедов коснулся в “Горе от ума” множества серьезнейших вопросов общественного быта, морали и культуры, которые имели в декабристскую эпоху самое актуальное, самое злободневное значение»1. Но содержание не существует отдельно от формы! Если же довольствоваться весьма расплывчатыми обозначениями («в той или иной форме», «в той или иной мере»), то поневоле содержание произведения придется облекать в форму собственного изготовления. Попытка прямым текстом выделить идейное содержание игнорирует формы, в которых они созданы. Изложение идеи книги своими словами ведет к искажению авторской позиции, подчас существенному. Так что содержание произведения надо представлять не «в той или иной форме», а только в той, в какую его облек художник. Путь к пониманию авторского намерения лежит через понимание поэтики книги: чтобы понять, что изображено, надо видеть, как это изображено.
Отдаю отчет в том, что копание в мелочах будет далеко не всем по душе. Но как иначе добраться до понимания авторской позиции? В искусстве окольный путь к истине оказывается надежнее и эффективнее, чем прямой. В полном объеме восстановить ход авторской мысли невозможно; важно стремиться пройти этим путем как можно дальше. Награда будет достойная: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».
Заманчивым было бы опереться на принцип непредвзятости, но, увы, он недосягаем. Образование, эрудиция, опыт, вкус, мировоззренческая позиция – все это и создает взятое «пред». Выразительно о несомненном сказал М. Л. Гаспаров: «Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал или мог читать Пушкин, трудно, но возможно; забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, неизмеримо труднее»2. Но если видеть трудности, отчетливее задача их преодолевать.
Понятно, что какие-то итоговые мысли у меня определились, они и побудили отправиться в путь. Но я убежден: сам материал таит в себе новые наблюдения, корректировку накопившихся. Изведанное откроет новые грани. Поиск предпочтительнее вещаний. Классиков нет надобности учить, у них в достатке того, чему можно учиться.
По идее эту книгу надо было бы называть «Грибоедов и Пушкин»: из двух знаменитых творцов новой русской литературы (они еще и двойными тезками оказались) Грибоедов был немного старше и первым создал свой шедевр. Но это умозрительное рассуждение, а выбор исследователя определяет материал, который оказался в творческом наследии авторов. Пушкин с Лицея определился как профессиональный литератор («Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел»). Грибоедов трепетно относился к литературе, воспринимая ее как средство познания жизни, но даже очевидный успех «Горя от ума» не увлек его на путь профессионального творчества (впрочем, и служба не отпустила). От литературы он требовал не менее, как откровений. Эрудиция его была завидной. При этом он оказался очень скуп на литературные оценки. На таком скудном материале концепцию нельзя выстроить. Тут уж волей-неволей материалы профессионала Пушкина предстают почти монопольными и по этой причине становятся опорными.
В центре внимания – два шедевра, задуманные и создававшиеся параллельно, но чтобы лучше понять их, в поле зрения и личности их творцов в их связях с действительностью.
Из пушкинских материалов о Грибоедове наиболее в ходу два письма с оценками «Горя от ума»; очерк о писателе, включенный в «Путешествие в Арзрум», используется исследователями слабо. Наибольший интерес уделен реминисценциям из комедии; весьма основательно этот материал представлен в статье С. А. Джанумова «“Горе от ума” А. С. Грибоедова в произведениях и письмах А. С. Пушкина»3.
Как раз этот особенно привлекательный среди исследователей Грибоедова аспект в данной работе будет затронут только мельком. Наша цель иная: оценить вклад обоих поэтов в развитие русской литературы. Тут речь не о взаимовлиянии, которого и не было: каждый шел своей дорогой. Интересны и частичные совпадения решений, и полностью оригинальные находки.
Моя задача – не изложение того, как я воспринимаю героев Пушкина и Грибоедова, а попытка понять, какими изображают своих героев Пушкин и Грибоедов.
Личные отношения
1
А ведь весьма любопытен факт, который как-то не вычленялся: два основателя новой русской литературы в одно время оказались сослуживцами! В 1817 году один – после окончания Лицея, другой – гусар Отечественной войны в отставке, поступили на службу по Коллегии иностранных дел. Имя Грибоедова неизгладимо вписано в историю российской дипломатии, но произошло это позже, не в столичные годы. Удивительно: ни у того, ни у другого поэта столичная служба не оставила следа в их жизни. Еще значительнее совпадение: оба покинули столицу не своей волей. Грибоедова поманили Америкой, а отправили в глухую Персию, и было это негласным (несколько припоздавшим) наказанием за участие в нашумевшей четверной дуэли. И Пушкина в южную ссылку не отправляли, а мелкого чиновника перевели по службе в южную канцелярию того же ведомства (впрочем, это поощрением никем не воспринималось).
Нет никаких документов этой поры, выявляющих какое-либо общение молодых авторов в Петербурге. Между тем существует (и недостаточно используется) уникальный психологический портрет дебютировавшего поэта в очерке Пушкина о Грибоедове, включенном в «Путешествие в Арзрум»: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, – всё в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном». Только в улыбке этой нет оснований видеть стеснительность поэта-дебютанта; волей начальства покинув столицу, Грибоедов писал С. Н. Бегичеву 18 сентября 1818 года в пути на юг из Воронежа: «В Петербурге я по крайней мере имею несколько таких людей, которые не знаю, настолько ли меня ценят, сколько я думаю, что стою; по крайней мере судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой хочу, чтоб на меня смотрели».
Выделим бесценное свидетельское показание Пушкина: «Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям…». Оно естественно после «Горя от ума», выявившего это дарование. Но тут речь идет о начале творческого пути, отнюдь не блистательном.
Утраченная пародийная комедия «Дмитрий Дрянской». Одна пьеса в стихах: перевод с немецкого. Соавторство в написании нескольких водевилей, где нет возможности вычленить участие Грибоедова. Общий уровень их таков, что они, не теряясь на фоне театральной жизни того времени, не стали литературными событиями. Написал дельную статью, примкнув к движению младоархаистов. Была активной пикировка эпиграммами между «своими» и «чужими» в среде театралов. Дебют не громкий, не сулящий взлета! Понятна странная улыбка честолюбивого и ощущающего свои способности человека в ответ на признание авансом его дарований.
Раннее знакомство двух поэтов не привело к их дружбе, к тому же они оказались в разных литературных группировках. Грибоедов – активный участник кружка Шаховского, комедия которого «Урок кокеткам, или Липецкие воды» послужила для антагонистов толчком к образованию литературного общества «Арзамас», к которому Пушкин рвался примкнуть еще лицеистом. Ю. Н. Тынянов в статье «Архаисты и новаторы» показал, что принадлежность к враждующим группировкам не препятствовала реальному сближению позиций их участников в трактовке целого ряда проблемных вопросов.
Значение даже мимолетных ранних контактов с Грибоедовым для Пушкина со временем возрастало.
В январе 1824 года Пущин, сделав крюк, навестил в Михайловском опального друга. Грибоедову не удалось продвинуть «Горе от ума» ни в печать, ни на сцену. Но списков комедии было наготовлено столько, что они успешно соперничали с тиражами того времени. Был такой список и у Пущина. Впечатлениями от прочтения, по обстоятельствам – беглого, Пушкин поделился 28 января 1825 года в письме к Вяземскому и в близкие к этой дате дни в письме к Бестужеву. Письмо к Вяземскому интимное, дружеское; автора ничто не связывает. Письмо к Бестужеву деликатнее, оно содержит просьбу показать письмо Грибоедову. В связи с различием адресации писем возникает и отличие оценок.
Бестужеву: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следовательно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова». Но тут угадывается фигура умолчания: не осуждаю – но мог бы осудить. Это выявляет реплика в письме к Вяземскому: «во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины».
На своих замечаниях Пушкин не настаивает: «Может быть, я в ином ошибся. <…> Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог я справиться» (Бестужеву). Общая оценка комедии высокая. «Читал я Чацкого – много ума и смешного в стихах…» (Вяземскому). «Покажи это Грибоедову. <…> Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался. <…> По крайней мере говорю прямо, без обиняков, как истинному таланту» (Бестужеву).
Пушкин формулирует главную цель писателя: «характеры и резкая картина нравов»4. Под таким углом зрения особо выделены Фамусов и Скалозуб, есть претензии к изображению Софьи, Молчалина, Репетилова. «Les propos de bal <Бальная болтовня>, сплетни, рассказ Репетилова о клобе, Загорецкий, всеми отъявленный и везде принимаемый, – вот черты истинно комического гения».
Необычна у Пушкина оценка главного героя. Решительно заявлено в письме к Вяземскому: «Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умен». Эти оценки повторяются и в письме к Бестужеву, но тут развертываются и мотивируются. «В комедии “Горе от ума” кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Всё, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому под.». Но у Чацкого на сцене нет единомышленников, и что же ему остается делать? Молчать? А как же мы узнали бы, что он умен? Да и резонерство Чацкого Пушкин преувеличивает.
Между тем как не принять во внимание общее свойство драматургии: автора не принято включать в число действующих лиц (о редчайших исключениях из этого правила говорить не будем) – но позиция автора для понимания доступна, воспринимается без усилий. Тут важно обратиться к композиции: она уж точно выстраивается по воле автора. Над примитивными решениями Пушкин подсмеивался:
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.
У нас не о примитивах речь. Композиция здесь красноречива. Именно она делает внятной позицию автора, выявляет его ум.
В замечаниях Пушкина не стыкуются упрек в отсутствии плана и такое наблюдение: «Между мастерскими чертами этой прелестной комедии – недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину прелестна! – и как натурально! Вот на чем должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов видно не захотел – его воля». А она на этом и вертится! Пушкин это замечает, но, вероятно, по причине спешки первого прочтения не придает такому построению должного значения.
Завершающая оценка стала хрестоматийной: «О стихах я не говорю: половина – должны войти в пословицу».
Здесь хочется отметить, что во взаимных высказываниях о творчестве друг друга оба Сергеевича наступили на одни грабли: люди творческие, они вместо того, чтобы попытаться понять замысел автора, фактически предлагали свое видение персонажей и ситуаций.
Пушкин посчитал, что «Софья начертана не ясно: не то – – – – -, не то московская кузина». Современный читатель плохо сведущ даже и не в слишком отдаленных родственных связях (кузина – близкий родственник, двоюродная сестра), тем более не стремится понять, за что выделен этот типаж. Нам за пояснениями далеко ходить не надо. Выразительный образец – княжна Алина, близкий человек для Лариной, матери Татьяны. Та чему от нее набралась?
Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей о них.
Заемная книжность Лариной в деревне, не пополняемая, быстро выветрилась, зато прожившая в мире книг всю жизнь Алина и в старости осталась княжной. Она и новую, неожиданную для нее встречу воспринимает в привычном для себя ключе: «Ей богу, сцена из романа…». (Бытовая фраза оборачивается каламбуром, поскольку для читателя это действительная сцена из романа. Романа в стихах Пушкина).
Пушкину показалось недостаточно острым изображение избранника Софьи: «Молчалин не довольно резко подл; не нужно ли бы сделать из него и труса? старая пружина, но штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом мог быть очень забавен». Но у Грибоедова этот образ показан не столько смешным, сколько опасным, страшным, удостоенным недоуменного восклицания Чацкого: «Молчалины блаженствуют на свете!». Очень не прост этот образ в комедии!
2
В сохранившемся не слишком обширном эпистолярном наследии Грибоедова крайне редки (да и те скупы и лаконичны) суждения на литературные темы. Тем значительнее выглядит просьба Булгарину доставить ему на гауптвахту Главного штаба (февраль 1826) «Стихотворения» Пушкина. Кстати, в его письмах встретилась одна стихотворная цитата из Пушкина в размышлении, что такое слава («Лишь яркая заплата / На ветхом рубище певца»), а еще одна – из своего «Горя от ума».
Особый интерес Грибоедов проявил к трагедии «Борис Годунов». Он пишет Бегичеву (9 декабря 1826. Тифлис): «Когда будешь в Москве, попроси Чадаева и Каверина, чтобы прислали мне трагедию Пушкина “Борис Годунов”». Сетует в письме к Булгарину (16 апреля 1827. Тифлис): «Желал бы иметь целого “Годунова”. Повеса Лев Пушкин здесь, но не имел ко мне достаточного внимания и не привез мне братнина манускрипта». Тут, вероятно, Грибоедов судит по своему опыту: «Горе от ума» не удалось напечатать, а списков разлетелось множество; ужели списков трагедии нет у близких друзей? Он не знает, что Пушкину были запрещены чтения трагедии и выпуск на публику произведений, не прошедших цензуру.
Активным общение двух Александров было в марте – июне 1828 года, когда Грибоедов явился в столицу вестником Туркманчайского мира. «Их часто видели в то время вместе не только в Демутовом трактире, где они снимали номера, но и у общих знакомых…»5. К. А. Полевой свидетельствует, что на обед у литератора и журналиста П. П. Свиньина Грибоедов прибыл вместе с Пушкиным; вечером он читал наизусть отрывок из трагедии «Грузинская ночь»6; можно не сомневаться, что общение двух поэтов в эти месяцы было несомненным, но Пушкин, увы, об этом умалчивает и о «Грузинской ночи» не упоминает.
«16 мая в доме Лавалей Г<рибоедов> слушал чтение “Бориса Годунова” автором»7. Наконец-то исполнилось его давнее желание. (Ради Грибоедова Пушкин нарушил жандармский запрет?).
Сохранились два отзыва Грибоедова о трагедии Пушкина. Один – в письме к Булгарину (из Тифлиса 16 апреля 1827 года) после прочтения сцены в келье Чудова монастыря, напечатанной в журнале.
Грибоедов проницательно угадал пушкинскую мысль в словах персонажа: «И не уйдешь ты от суда мирского, / Как не уйдешь от божьего суда». Эта мысль близка и Грибоедову. Подробнее сказать об этом отзыве будет повод позже.
Другой отзыв изложен в пушкинском письме Н. Раевскому 30 января 1829 года (по-французски), которое поэт намеревался включить в предисловие к «Борису Годунову» (трагедия была напечатана без предисловия). В письме отмечалось: «Грибоедов критиковал мое изображение Иова – патриарх, действительно, был человеком большого ума, я же по рассеянности сделал из него дурака».
Посмотрим сначала, что показано в пушкинской трагедии. Патриарх активным действующим лицом предстает лишь в одной сцене, «Боярская дума», весьма оригинальной по содержанию. Здесь какие-то важные решения (направить в войска Трубецкого и Басманова, не принимать помощь союзников – дабы потом не быть за нее перед ними обязанными, не привлекать на ратную службу монастырских отшельников – их молитва важнее участия в войсках) царь принимает сам, боярам их только объявляет, заключая: «таков / Указ царя и приговор боярский». Но один вопрос он выносит на боярское обсуждение: как нейтрализовать слухи, которые сеет «наглый самозванец». В запасе у царя есть средство («Предупредить желал бы казни я»), но он пока его придерживает. Первое слово сам дает патриарху (условился с ним об этом заранее?). Тот рад дать свой совет, хотя признается: «Твой верный богомолец, / В делах мирских не мудрый судия, / Дерзает днесь подать тебе свой голос».
И следует самый длинный в трагедии монолог. Патриарх неторопливо рассказывает историю, как слепой старец помолился на могиле царевича и прозрел. Отсюда и совет: перенести святые мощи в Архангельский собор.
Умолк патриарх – и наступило глубокое молчание. Наконец, его прерывает князь Шуйский. С патриархом он не спорит, но предлагает другое средство – «проще»: «Я сам явлюсь на площади народной, / Уговорю, усовещу безумство / И злой обман бродяги обнаружу». Вряд ли предлагается действенное средство (и не будет упоминаний, состоялась ли такая попытка), но царь рад случаю закончить ставшее тягостным заседание.
Речь патриарха сопровождается авторской ремаркой: «Общее смущение. В продолжение сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком». И заключительная ремарка: «Уходит <царь>. За ним и все бояре». Двое из бояр обмениваются тихими репликами: «Заметил ты, как государь бледнел / И крупный пот с лица его закапал?» – «Я – признаюсь – не смел поднять очей, / Не смел вздохнуть, не только шевельнуться».
Что же такое шокирующее в словах патриарха, что очевидно для всех, кроме говорящего? Предлагаемое средство действительно изобличает самозванца, но признание мощей чудотворными означает, что царевич был убиенным, а не подвернувшимся под нож случайно. И возникает вопрос о заказчике убийства. Стало быть, гасятся одни слухи, но тут же порождаются новые, и очень сомнительно, что они окажутся для Годунова легче, чем прежние.
К слову, самому изобретательному театру не по силам выразительно поставить эту сцену. Длиннейший монолог. Ну, Годунов вытирает лицо: что тут выразительного даже для зрителей первых рядов партера, не говоря уж о тех, кто сидит подальше? Но ныне на экране сцену легко сделать потрясающей. Времени достаточно, чтобы дать общий план заседания и погулять по лицу говорящего, по лицам присутствовавших, но с тем, чтобы потом остановиться и крупно, во весь экран показывать лицо Годунова; медоточивый голосок за кадром – а на помертвевшем лице царя набухают капли пота…
Для чего Пушкину нужна эта сцена? Поэт показывает страшное одиночество нового царя. Борис заботливо растит наследника, но тот пока еще для царского дела мал. Боярская верхушка ревниво оппозиционна. Талантливые из незнатных его поддерживают, но ненадежны; они продают свой талант властям, выгодные для них предложения не пропустят. Народ либо безучастен, либо обозлен отменой Юрьева дня, благодеяния царя его только раздражают. Патриарх всецело на его стороне, и это была бы весомая поддержка, так ведь он недальнего ума человек: вот тут хотел помочь – а эффект неожиданный; патриарх – а не замечает побочное следствие своих слов, которое внятно окружающим.
Грибоедов указал на отступление от исторической достоверности (и судит об этом компетентно!), а у Пушкина это историческое лицо выполняет только функциональную роль. Как историк Пушкин здесь неправ, но как художник сообразуется с логикой всего произведения.
И какая художническая честность! Кто бы знал о критическом замечании поэта-современника, если бы не пушкинское признание, предназначенное для печати.
3
В необычной для него по форме статье «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1827) Пушкин поместил такой фрагмент: «Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем имя автора и еще находящимся в печати, и о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра и еще не игранной и не напечатанной. В сем последнем случае Ансело чуть ли не прав. Забавная словесность!». Этим лаконичным замечанием Пушкин решает двуединую задачу: высмеивает Греча и Булгарина, до назойливости занимавшихся саморекламой и восхвалением друг друга, и создает рекламу действительно достойной внимания комедии Грибоедова (о которой у Ансело нет упоминания).
Читал ли Пушкин «Горе от ума» после возвращения из ссылки, не зафиксировано.
О последнем общении с Грибоедовым Пушкин вспоминает в «Путешествии в Арзрум»; но и здесь он слишком краток: «Я расстался с ним в прошлом <1828> году, перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: <по-французски: «Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей»>. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства».
След последних встреч остался и на листе черновой тетради. Здесь имеет значение памятная запись: «9 мая 1828. Море. Ол<енины>. Дау». В этот день Пушкин участвовал в поездке на пироскафе в Кронштадт. Дау (правильнее Доу) – знаменитый художник, автор портретов в памятной галерее 1812 года в Зимнем дворце. В поездке он набросал карандашный портрет Пушкина, что вызвало экспромт поэта:
Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.
Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.
25 мая (в канун дня рождения поэта) групповая морская прогулка в Кронштадт была повторена; участниками поездки были Грибоедов и Вяземский. Грибоедов своими тревожными предчувствиями резко выделялся среди развлекающихся экскурсантов. Пушкин, по воспоминаниям в «Путешествии в Арзрум», пробовал его успокоить, но предчувствия собеседника были слишком основательными. На том листе рукописи, о котором сейчас речь, Пушкин рисует два профиля Грибоедова; рисунок задевает памятную запись. А тревожные предчувствия томили и его самого. Они выливаются здесь в набросок стихотворения, и названного «Предчувствие».
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
«Снова тучи…» А что было раньше? Тут гаданья излишни, об этом сказано прямым текстом во втором четверостишии первой же строфы.
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Контуры ссылки поэта в 1820 году прорисовываются здесь очень отчетливо. Между тем ее обстоятельства часто толковались на уровне школьных упрощений: нехорошее правительство наказало поэта за его хорошие вольнолюбивые стихи. Был известным, но явно недооценивался личностный фактор. В январе 1820 года Пушкин «последним» с ужасом узнал, что по Петербургу бойко гуляет гнусная сплетня. Ее запустил Ф. И. Толстой (Американец): поэта за крамольные стихи якобы высекли в тайной канцелярии8. Можно понять состояние честолюбивого Пушкина, но и трудно представить всю меру его отчаяния, вплоть до намерения покончить счеты с жизнью. Поэта спасла только здравая мысль: подобная акция не гасила бы сплетни, наоборот, косвенно их подтверждала.


