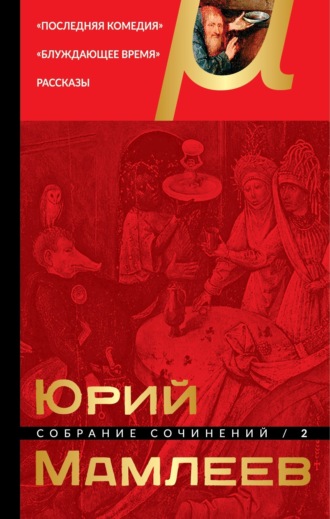
Юрий Мамлеев
Собрание сочинений. Том 2. Последняя комедия. Блуждающее время. Рассказы
Но одно лихое изменение произошло в душе: обнаглев, Саня зарился теперь только на вечное тело. «Лишь бы не продешевить», – мокрый от пота, думал он, одинокий, под одеялом, поглаживая ляжки. Душа разрывалась от наслаждения при мысли, что он сможет вечно (по крайней мере, до конца этого мира) смердеть и стирать пот со своих жирных ног. «Только вечно тело», – выл он про себя.
В уме всё время плыла неприятная история, случившаяся с одной московской студенткой, история, хорошо им пронюханная. Девочка (она была очень проста, как все) полюбила человека, который, как выяснилось впоследствии, прошёл чёрное посвящение. Неожиданно он показал ей свою силу; о реальном мире она, конечно, не имела никакого представления: всё было вычитано из учебников; поэтому ей и в голову не пришло подумать об источнике этой силы, она приняла её как факт. Возлюбленный спросил, хочет ли она, хотя бы частично, обладать этой силой. Она с радостью согласилась, подпрыгнув при этом и вспомнив любимую химию. Немного рассмешило её, правда, то, что нужно было раздеться, распустить волосы, надеть белую рубаху и, взяв образ (картину, как она называла), босиком выйти с учителем на улицу (дело было летом)… Вечером они вышли, таким образом, и никто не обратил на них внимания. Обнажилась луна, и они очутились у безлюдного перекрёстка. Девочка, с золотистыми распущенными волосами, была по-ночному прекрасна. Учитель приказал ей встать на пересечении дорог и попрать босой ногой образ Бога, что девочка, нимало не сомневаясь, и сделала. К её изумлению, явственно послышалось ржанье лошадей, и перед ней предстал феномен эманации Дьявола. Это была великолепная тройка, царская карета, и в ней юноша с короной на голове. «Чего ты хочешь, дочь моя?» – последовал роковой и знаменитый во все века вопрос. Девочка вспомнила, что можно попросить всё, что хочешь – так говорил возлюбленный – и громко воскликнула: «Хочу японские чулки!» «Да будет так», – ответил юноша, и всё скрылось.
На следующий день исчез возлюбленный; во всяком случае, больше его никто не видел. Девочка осталась одна. Японские чулки немедленно пришли к ней: вдруг познакомилась в универмаге с женщиной, только что вернувшейся из Японии. Но скоро стала расти невыносимая тревога. Не находила себе места и т. д. Всё удивлялась: при чём здесь икона; повесила себе, из интереса, сразу три и подолгу, тупо уставившись, смотрела на них. Появился беспричинный хохот. Или просто смотрела в одну точку. Из точки иногда почему-то выплывала обезьяна, причём очень похожая на Дарвина; по ночам ей казалось, что этот обезьянодарвин расставляет по углам книги об эволюции; днём в слезах она читала своего любимца, пытаясь найти там ответы, напоминая дебила, копошащегося в детских раскладных игрушках.
Дальнейший ход Саня потерял из виду, но во всей этой истории его особенно задел мотив японских чулок. «Ну, как так можно, ну, как так можно!!!» – мысленно подпрыгивал он на одном месте. Финал этой антидрамы казался ему настолько трупным, что в его уме происходило какое-то смешение. Особенно изводила его мысль о том, каким образом такое существо – эта девочка – сможет воспринимать собственное бытие после смерти, отданное во власть нечеловеческой иерархии. И с особым неистовством он жаждал вечного тела. Путаясь в предположениях о том, как его заслужить, он тем не менее решил сначала попытать счастья сразу и обычным путём: церемониал и т. д. ему был известен.
Но чем ближе было к установленному им самим сроку, тем больше страх овладевал им. Как бы не совершить роковую ошибку, не слишком запросто угодить в ад, прозевав при этом земную жизнь. Теперь он решительно был согласен только на вечное тело; всё другое блёкло перед потусторонним огнём ада. «Надо быть осторожным, как можно более осторожным», – урчал он про себя. Вспоминал свою осторожность при переходе улиц. И решил, что, пожалуй, надо видоизменить ситуацию (пот так и стекал с дрожащей задницы). Прямое и наглое требование вечного тела могло не понравиться Сатане. Поэтому-де имело смысл совершить как бы предварительный вызов, на котором не заключать договор (при мысли о договоре у Сани сразу же ёкало сердце), а просто спросить, возможно ли для него получить вечное тело и при каких данных. Одним словом, оговорить всё до мельчайших деталей.
Наконец Саня, из патологического страха, стеснённого, правда, истерическим желанием сделать через Сатану своё бытие непрерывным, решился даже несколько сюрреально видоизменить обряд. Чтобы-де, как он успокаивал себя, не слишком воплотить для первого раза, чтобы тихонечко снизить ситуацию, обсыпать юморком и сгладить, тем более что вызов как бы предварительный. «Сглаживанье» частично заключалось, например, в том, что местом вызова был избран знаменитый общественный клозет. Образ был отклонён, и выбор пал на механическое распятие, бессознательно оставленное мистером Брантом и т. д.
Обмыслив всё и, наконец, потихонечку осмелев («безопасность, безопасность самое главное!» – визжал он по ночам в ухо Груни), Саня двинулся к цели.
Ночь была тёмная и до идиотизма безлунная. Впрочем, в клозете горел ровный, но какой-то умирающий свет. Саня, стремясь всё-таки развязать страшный узел, загнал страх в самые тайники, чуть ли не в член. Только там, в самом кончике, он, дрожа, надеялся на безответность своего призыва.
К ужасу его члена, вдруг из толчка раздался голос. Если бы затем появилось видение, Саня бы не выдержал: упал в обморок и, вероятно, член бы его оторвался (по инерции страха) и, окровавленный, свалился в толчок – в этот чёрный алтарь. Странный гул и бульканье воды сопровождали голос. Слова были: «Дам вечное, но только куриное», и так было повторено два раза. Смысл этих слов под конец неожиданно вернул Саню к реальности и к своим желаниям. Он даже завизжал, хотя где-то был совсем остолбеневши.
– А душу… душу!? Душа-то моя останется или куриная?!? – завопил он, упал на колени перед толчком. Голос оттуда надменно молчал. Внеземная тишина охватила Саню. Душа была отлетевшая и точно не здесь. Внезапно он почувствовал, что вызов окончен. Тогда дико захохотал.
– Не куриное, а голубиное!! – закричал он, вскочив на ноги.
В глазах виделся только угол с паутиною, у потолка клозета.
– Не куриное, а голубиное! – застонал он, леденея.
«Ко-ко-ко», – почудилось ему в глубине какое-то женственное кудахтанье. Не в себе, он вылетел из клозета в коридор. Там, из другого конца, навстречу ему на четвереньках полз Семён Петрович.
– Голубчик мой… голубчик! – по-бабьи, рыдая, выкрикнул Саня, выбежав во двор, в окружающую распростёртую ночь. – Вот она, вечность! – закричал он, схватившись за голову и осматриваясь кругом.
Везде была бездонная тьма.
Боль № 2
Илья Садовников, тогда ещё молодой парень лет двадцати пяти, как-то летом, на даче, вышел во двор, чтоб испражниться около чёрной, уходящей вдаль, ямы. Он сидел опустошённо, ни о чём не думая. В это время огромная, ни на что не похожая свинья выскочила из-за кустов и намертво, как некий упырь, впилась ему в задницу, как раз в то место, откуда уже выходил кал. Илья завизжал и упал ничком, головой в землю; внешне положение у него было такое, как у истово молящихся, бьющих лбом об пол.
Свинья, возможно, и озверела бы, вгрызаясь мордой в кал и зад Ильи, если бы не птичка, вдруг стремительно вылетевшая Бог весть откуда и севшая на ухо свинье. Свинья почему-то страшно испугалась и, с хрюканьем ломая кусты, унеслась в темноту трав и деревьев… Илья долго болел: неистовое животное вырвало кусочек его задницы, который оно, наверное, успело проглотить вместе с калом.
Первое время у Ильи болезненно ныло сердце и вообще, был полный разброд в мыслях: ему стало казаться, что этот вырванный кусочек его тела имел когда-то тайно-интимный, несколько даже эзотерический смысл; он нередко в слезах гладил изуродованное место.
Но потом более значительные переживания смыли этот прилив странной, почти астрологической жалости к себе.
Дело в том, что по ночам, во сне, ему стала являться эта свинья или, как говорят некоторые мистики, «приходить». Он ясно видел её ощеренную, безобразную морду и, главное, глаза – очень тупые, но наполненные патологически-животной силой, и эта сила, выраженная в таком, как удар кулака, взгляде, была направлена только на одно – на зад Ильи, который он тоже видел во сне как бы сквозь флёр собственного, родного сознания.
Теперь Илью – и во сне, и наяву – мучили извивающиеся, копошащиеся вопросы. И главный из них был: какое он сам, в конце концов, его чистое «я», имеет отношение к этой свинье и вообще к свиньям. «До какой степени мы связаны с ним одной верёвочкой?» – думал он. И почему свинья так пристально смотрит на него во сне; и почему его родное, субъективное тело так странно, в качестве еды, притягивает свинью? А может, и в другом его качестве?
Даже нюансы мучили его: например, что именно влекло свинью к нему: его задница или кал?..
Илюша совсем обессилел от этих задач; ему были смешны «биологические» ответы, так как за всем этим он видел реальные, не поддающиеся формальному мышлению бездны…
В конце концов, совершенно травмированный и физически, и психологически, он уехал лечиться в санаторий, но поскольку понятие «травмы», как медицинское, не выражало и сотой доли его состояния, которое было вызвано обострённой метафизической реакцией, то санаторий тут был не при чём. Физическая травма, разумеется, прошла, но не больше. Вернувшись из санатория, Илья на многие годы запил. Но боль № 1 – так называл он теперь «это» – не проходила.
Да и жизнь его была достаточно одинокая. В бессмысленно-юркой комнатушке, где он жил, обитали ещё мать Антонина Ивановна и сестра Галя. Когда появилась боль № 1, он и их стал воспринимать как-то нереально, через призму этой боли. Кроме того, когда он чувствовал позыв, но него всегда теперь нападала страшная тоска. Она была вызвана не только общим унижением, но и тем, что он ощущал во время испражнения какую-то непосредственную, мракобесную связь со свиньёй, и вообще с некоей крикливой, идиотической, но вместе с тем жизненной силой, направленной в бессмысленно расширяющуюся вселенную. От тоски у него мутился ум, и мамаша вместе с сестрёнкой находились уже не в пространстве, а как бы в сгустке тоски. И плясали они тоже в этом сгустке. Иногда в припадке бессмыслия, перед тем как пойти в клозет, он жестоко избивал своих родных ночными горшками.
Впрочем, они – родные – были тоже достаточно патологичны, но только мелко, суетно. Старушка Антонина Петровна была чрезмерно похотлива и потихоньку удовлетворялась, обмусоливаясь об толстых, объёмных мужчин где-нибудь в густо набитых трамваях, троллейбусах.
– Курочка по зёрнышку клюёт и сыта бывает! – лихо, обращаясь в пустоту, приговаривала она, приплясывая у себя в доме, посреди комнаты…
Галя же часто жевала, и когда жевала, то беспрестанно говорила, в обычное же время была тиха, забита и пряталась, нередко даже под кроватью.
Часто, когда Илья собирался по-большому – а это все заранее потаённо предчувствовали – мать и сестра замирали у себя на местах и настороженно смотрели на него из своих смирных щелей большими опустошёнными глазами. Этот раздражающий мистицизм совсем расшатывал Илью. Иногда в клозете с ним творилось чёрт знает что. Со всех углов и даже с потолка на него смотрели свиные морды и тянулись к нему, но не телесно, а больше взглядом, как будто взглядом можно прижаться к человеку.
Нравственно утомлял его и выматывал также сам процесс испражнения.
Часто, встав с толчка, он был не в состоянии надеть даже брюки, и так и застывал, облокотясь об стену, задумываясь, как бы улетая вдаль…
Надо сказать, что когда он кончал испражняться, свиные морды тотчас исчезали, и он мог спокойно обдумывать своё положение… Говорят, что время лечит даже любовь, и Илья утешался этой мыслью, надеясь, что по крайней мере к старости всё это у него пройдёт, а пока надо привыкать и мучиться…
Но неожиданно – уже года через три после появления боли № 1 – его охватило странное состояние, на которое вначале он не обратил особого внимания, но которое вскоре овладело им настолько, что боль № 1 стала тускнеть. Началась вся эта история с пустяка: на вечеринке кто-то из знакомых уронил карандаш и тотчас поднял его. Илью вдруг это страшно и внезапно обозлило. И обозлил почему-то именно тот факт, что человек этот прикоснулся рукой к полу. Эта неожиданная злость была настолько странна и непонятна, что Садовников не на шутку испугался.
– Тьфу ты, чертовщина какая-то, – плюнул он с перепугу, – что он мне сделал плохого?
Но дикая мысль не оставляла его.
«Как всё это плохо, плохо», – бормотал он про себя.
– Что плохо? – вдруг завопил он. – Что, собственно, трагического случилось?
И вдруг бесконечное ощущение какой-то скрытой трагедии пронзило его насквозь. Но сознание взбунтовалось.
– Тьфу ты, сумасшествие, ерунда какая-то, просто я переел, – хихикнул он в пустой бокал.
Но смешок был гаденький, патологический, такой, каким смеются перед тем как вешают собственную дочь…
– Просто наваждение, – хлопнул себя Илья по ляжке и вышел на балкон подышать свежим воздухом.
Самое странное было то, что все остальные события происходили своим чередом: кто-то пил, ел, разговаривал о звездолётах. Илья тоже понемногу включался в эту жизнь. Вечеринка должна была длиться ещё долго-долго, несколько часов. Илья почти не пил, беседовал, даже танцевал, но иногда, например, посреди танца, мысль о каком-то большом, чудовищном горе сжимала его сердце и заставляла его биться ровно, холодно и до дикости опустошённо, как перед психической смертью.
В конце вечеринки кто-то из мужчин уронил на пол спички, естественно, поднял их. Илье вдруг стало так нехорошо, что он подошёл, побледнев, и укусил этого человека в шею.
– Педераст, педераст! – завизжали на всю комнату дамы. – Уложите его спать.
Илья глупо улыбнулся и заперся в уборной… Возвращаясь к себе домой, старался не думать о ерунде. Спал тревожно, с пронизывающими, хаотичными мыслями, но очень отвлечённо, точно он не спал, а путешествовал в пустом пространстве. Проснулся он со смутным ощущением какой-то большой случившейся неприятности, но в чём дело, он никак не мог понять. Перебирая все последние события своей жизни, он повторял: «Это в порядке, это в порядке… Так в чём же дело?»
Неожиданно его взгляд остановился на его голой матушке, которая в это время, сидя на кровати, нагнулась до полу, чтобы достать ночной горшок. Уже через секунду он так подозрительно на неё смотрел, что матушка вздрогнула и приподнялась.
– Что ты, что ты, Илья, чего ты так на мня смотришь, – махнула она на него рукой, как на чёрта. – Ты же никогда не ворчал, когда я мочилась перед тобою… Чево ты, – бормотала она, голая, прячась от него в кровать (Галя в это время была, как всегда, под кроватью).
Илья выскочил на улицу. И долго, долго бродил.
«О, какая суета! Суета! – думал он. – Разве они могут меня понять??. Но что произошло?»
У него было такое ощущение, что произошло что-то грозное и неотвратимое.
«В конце концов, – анализировал он, – установим факты. – Мне, неизвестно по какой причине, становится ужасающе неприятно, если я вижу, что кто-либо из людей прикасается рукой к полу. Я чувствую, что они почему-то становятся мне чужими, чужими… О, как это страшно… Ведь и так люди чужие, но этого часто не замечаешь, кроме того, иногда они бывают одновременно родными, а здесь… здесь… словно трое людей, которые на моих глазах прикоснулись к полу, оказались за какой-то вечной, непреодолимой стеной, и с ними нельзя уже обменяться даже человеческим взглядом. Они ненавистны».
Так думал он, и его ужасало присутствие новой боли. Когда он забрёл по нужде в клозет, то был поражён тем, что свиные морды не появлялись, если только не считать намёков, и вообще, на сей раз испражнялось не так психологически болезненно, как обычно, почти легко и радостно. Боль № 2, как всуе, на толчке, назвал он новое состояние, затмила реальность прежней боли.
В таком смятении он провёл несколько дней.
Пытаясь разобраться в самом себе, он обнаружил, что, во-первых, это страшное чувство отчуждения и злобы появляется в нм лишь тогда, когда кто-либо прикасается рукой именно к полу, а не к чему-нибудь ещё. Например, если кто-нибудь прикасался к земле, это чувство не возникало.
Во-вторых, очевидно было, что за всю жизнь каждый человек не раз прикасался рукой к полу, но для Ильи это не имело значения. Боль № 2 возникала, только когда прикосновение происходило у него на глазах и, конечно, начиная со дня той удивительной вечеринки. И, наконец, это чувство могло относиться только к объекту, а к нему самому, чего бы он ни касался, оно не относилось.
За эти несколько дней Садовников наблюдал немало случаев, когда люди прикасались рукой к полу. Его сестра Галя вообще часто всем телом лежала на полу под кроватью, и она стала быстро внушать Илье ужас и отвращение… Дома происходили скандалы из-за того, что он отказывался есть с ней за одним столом. Галочка, напомним, умела говорить только во время еды. «Тогда силы в меня входят», – объясняла она, а в обычное время молчала. Поэтому Илья особенно не выносил теперь этих трапез.
Видел он также, как соседка-старушка мыла пол, как девочка мучила на полу кошку, как упал в коридоре мальчик. На этого последнего Илья так разозлился, что украдкой обмочил его с головы до ног.
Тянулись дни, месяцы. Илья видел, что не только отдельные люди, прикоснувшиеся к полу, раздражали его, но постепенно боль № 2 простёрлась как бы на весь мир, который стал ещё более чужд, нереален, судорожен и враждебен.
Но всё-таки ведь не это отчуждение от людей и мира так испугало его с самого начала. «Ну и чёрт с ними, с людьми, да и со всем миром», – думал он. А близкие – мать с сестрой – уже и так давно смущали его сознание. Так что в злобе не было ничего катастрофического. Судорожно поразило его – и понемногу стало разрушать душу – другое: почему боль № 2 появляется от такой патологически нелепой, бессмысленной причины, как прикосновение к полу?
Действительно, чем уж так отличаются люди, прикоснувшиеся на его глазах к полу, от других?! «Да ничем не отличаются!» – пожимал плечами Илья. Так почему же одних он ненавидит лютой ненавистью, а с другими может быть иной раз ласков, добр и почтителен?
Злоба и отчуждение, таким образом, были лишь конечными результатами действия каких-то сил, находящихся вне всякого понимания.
Этот яростный мистицизм доводил Илью до исступления. Ночью, босой, в одной рубашке, он метался по сонной комнате и выл: «Почему, почему, почему?» Копаясь в самом себе, расспрашивая мать, он страстно желал найти в своём детстве, в своём подсознании что-либо указывающее на его неприязнь к полу, на сексуальные травмы, связанные с ним и т. д. Но ничего не находил. С полом у него было связано только одно – пустота. Пол никогда не занимал хоть какое-нибудь микро-место в его душе. Илья просто не подозревал о его существовании. Он даже не мог выдумать причину своей неприязни к нему. Эта бессмыслица не просто бесила, но и пугала его. «Конец, конец, – стучал он часто зубами, съёжившись у себя под одеялом. – Конец».
Он не видел никакого основания для возникновения боли № 2; словно её окружала одна бездонная вечная пустота, ничто, из которого неожиданно выплывало это чудовище. Он с ужасом чувствовал, что у этой боли нет причины, и последнюю бесполезно искать; что эта боль – голова без туловища, лес без планеты, дождь без туч. Он вспоминал свои прежние странности. Но даже самая яркая из них, боль № 1, несмотря на некоторые причудливые детали, в основном имела вполне достойное человеческого разума объяснение. Действительно, не очень-то льстит тщеславию богочеловека всё время испражняться, да ещё после того, как твой зад привлёк пристальное внимание свиньи. Тут не просто галлюцинации могут появиться.
Илье теперь казалось, что его мать и сестра ведут вполне нормальную жизнь, ибо их патология заключалась в самом существе жизни, а его последняя патология была бессмысленна и вообще лежала вне мира.
– Ну и что ж, что мать обмусоливается, – говорил сам себе Илья, – она же не виновата, что, так сказать, мир вложил ей в чрево половые органы, а мужиков у неё нет, да они и злющие… А что удивительного, что Галя говорит с нами только тогда, когда жуёт, и кроме того, спит под кроватью?!. Ведь она так напугана… Только моя патология – не от мира сего, – жаловался он самому себе.
Иногда Илья пытался мысленно возвратиться к начальному пункту, к вечеринке, и восстановить в памяти, как, откуда, из какой тьмы появилась в нём злоба на человека из-за того, что тот поднял с пола карандаш. Может быть, она появилась из воспоминаний о прошлой жизни? Или, может быть, пол – это некий символ, и она – эта ненависть – как волна дошла до него из бездны времён, из бездны первоначального, когда все мы были единый комок навсегда для нас теперь Неизвестного?
– А, воспоминания, символы, – безнадёжно махал рукой Илья, – это ещё больше запутывает дело. Я в электричестве-то, как все, по сущности ничего не понимаю, а тут воспоминания, магия, символика! Просто боль № 2 появилась из пустоты… но, возможно, связанной с какой-то чудовищной катастрофой, постоянно присутствующей в мире.
Но шли годы. В конце концов, отчуждение от людей само по себе мало угнетало Илью. «Не целоваться же мне с ними», – успокаивал он себя. Иногда он срывался: однажды, в гостях, он страшно разозлился и наорал на человека, нагнувшегося, чтобы поправить себе ботинок.
Но постепенно главная причина транса – нелепость боли № 2 – перестала так давить на него. «Ну, непонятно, и ладно, – думал Илья. – Мне от этого ни холодно, ни жарко; есть же в мире беспричинные явления, например, сам мир».
Понемногу он успокаивался и окончательно привык как к боли № 1, так и к боли № 2, как привыкают к сознанию смерти, хронической болезни, вечной разлуке…
Что касается боли № 1, то она хоть и далеко не исчезла, но, однако ж, значительно потускнела: квазигаллюцинации совсем не появлялись, оставалось только общее угнетённое состояние при испражнении, прерываемое иногда взрывами хохота; часто теперь он переключал своё сознание с одной боли на другую, когда одна из них чересчур надоедала и утомляла его… Обе они придавали необычайную мрачность всему миру, но жить всё-таки было возможно, и иной раз даже неплохонько… Ведь были всякие гаденькие развлечения…
Так прошло ещё два года. Илья избегал людей, на его глазах прикоснувшихся к полу, и был добр и ласков со всеми остальными. И вот, наконец, произошло событие, перевернувшее всю его жизнь и в какой-то мере развеявшее весь прежний кошмар.
Он встретил свою любовь в лице молоденькой девушки по имени Тамара. С отчаянием обречённого, измученного человека он бросился в это чувство, как в чистую, бездонную, всё смывающую реку.
Сразу всё прежнее – и кошмарно-жизненная патология матери, и обе боли, и смерть, и бич Божий – куда-то исчезло, и в мире ничего не стало: ни язв, ни усмешки Дьявола, ничего, кроме этой чистой, маленькой девушки, которая своей улыбкой преобразила весь мир.
Тамара обладала удивительно богатым, тонким, казалось, бездонным подсознанием, которое было озарено, однако, скорее даже не верой, а ясным, хотя и, разумеется, априорным чувством того, что в мире, несмотря ни на что, есть абсолютная чистота и Бог.
В другой раз Илья, может быть, назвал бы это инфантильностью, но сейчас он с отвращением отбросил всякое копание; Тамара была чиста, тонка, почти всё понимала, её душа откликалась почти на всякое внутреннее движение; она вызывала в нём глубокое чувство, сама полюбила его – что же ещё нужно для спасения от этой мерзости запутавшегося в грязи и рефлексии мира? Так думал Илья. Естественно, что он пошёл на свет, зажжённый во мраке пещеры.
И действительно, ничто больше, никакие сомнения, никакая боль не мучила его, когда он был вместе с Тамарой или думал о ней. Он просто забыл обо всём.
«Тамара – это ребёнок, устами которого говорит Бог», – любил повторять он про себя.
И роман прошёл все самые утончённые стадии: от платонического восхищения до постельного экстаза. И трудно было отдать предпочтение той или иной форме. У каждой находились свои неповторимые, единственные черты, своя нега, своя мистика, своё озарение, своя теплота, свой жар. Илья забросил всё на свете, ни с кем не встречался, на родственников совсем не обращал внимания, предпочитая проводить время в маленькой комнате Тамары. Даже о Господе он вспоминал, приплюсовывая к нему Тамару.
Уже прошло несколько дней после полного обладания, и, казалось, счастью не видно конца. Все нюансы предшествующих стадий сплелись в один венок. Весь остальной мир виделся, как во сне…
Однажды Илья, упоённый, проснулся на постели и влюблённо смотрел, как Тамара одевается. Вдруг его неприятно поразило, что пальцы Тамары, надевавшей чулки, слегка коснулись пола. Неожиданно сердце его заныло от тяжёлого, даже жуткого предчувствия. Это предчувствие возникло где-то глубоко-глубоко, в подсознании, и обнаружило себя только в странной, почти физической тоске сердца. Душа его ещё яснела и улыбалась Тамаре.
Прошло полдня, однако ж подспудная внутренняя тревога не оставляла его. Вместе с Тамарой он вышел на улицу; всё по-прежнему было во сне. По-прежнему его сознание упивалось Тамарой, но внутри, под сознанием, в еле проглядывающей глубине, уже бушевали какие-то тёмные, не выразимые на человеческом языке бури. От этого в глазах Ильи начала уже пробиваться тоска.
Он поехал на работу – читать лекции. По дороге, вспоминая боль № 2, он возмущался её нелепостью и убеждал себя в том, что всё это чушь, абракадабра, и, тем более, это не может влиять на его вечную, божественную любовь.
Такой ход мыслей выглядел ясным, понятным и разумным, но тем не менее он со страхом прислушивался к чёрному голосу Неизвестного в своей душе и с содроганием чувствовал, что в нём есть силы, которые не контролируются ни разумом, ни волей. Всё же он усиленно, подгоняемый страхом перед прошлым, убеждал себя в том, что боль № 2 – это чушь, и она не выдерживает критики даже ребёнка; и когда Илья заставляя действовать в своей душе только рассудок, то ему становилось даже смешно. «Ведь надо же – считать людей чужими только потому, что они коснулись пола!» – говорил он самому себе. И ему действительно делалось смешно и радостно, что такой пустяк является для него единственным препятствием в жизни.
«Пора забыть о такой ерунде!» – напуская на себя важный вид, думал Илья. Но ему сразу приходилось убеждаться, что Неизвестное также имеет свой язык, человеческая душа – не только рассудок. Когти неведомого впивались в его сознание, начинало опять ныть сердце, и он чувствовал, что, совершенно независимо от его доводов, в его душе мечется ужас.
На лекциях Илья попытался уйти в абстрактность формул, но никакие хитросплетения не могли скрыть поднимающуюся даже во время работы до боли реальную тоску. Тоску оттого, что втайне Илья уже чувствовал Тамару чужой, страшно чужой, только из-за того, что она прикоснулась рукой к полу.
Поехал он домой совершенно надломленный, но ещё не веря тому, что ему не удастся – усилием воли – подавить эту мерзкую, прилепившуюся к нему чушь.
…До чего же прекрасным бывает на земле утро! Но и на это утро, и на следующее Илья просыпался в холодном поту: боль № 2 не оставляла его. Но он по-настоящему ужаснулся только тогда, когда обнаружил, что он, стремясь подавить боль № 2, думает уже не о том, что она – чушь, а о том, что, может быть, он ошибся, и Тамара не касалась рукой пола. Что же больше всего его мучило? То, что патологически разрушились любовь и наслаждение, разрушилось счастье, которое, казалось, он наконец-то достиг.
Любовное состояние блаженств упорно, минута за минутой, подтачивалось мыслью о том, что Тамара коснулась пола и, следовательно, она чужая; как только он мысленно, всей душой порывался обнять её образ, срабатывала тёмная глубь подсознания, и внутренний, спятивший с ума Дьявол вопил в нём, визжал и пришёптывал: «Так ведь она коснулась пола… Значит, она чужая тебе… Чужая, чужая… Она далеко от тебя… Ты любишь своего врага… Это иллюзия, что она тебе друг… Она коснулась пола… Тсс!»
Этот голос, сначала еле слышный, особенно когда Илья видел перед собой ясный облик Тамары, был с нею, потом, точно сорвавшись с цепи, стал звучать не только в её отсутствие, но и моменты высшего экстаза. Он визгливым чёрным упырёнком верещал, когда Илья целовал лицо Тамары, её руки, жестоко и бессмысленно срывая блаженство; замыкал душу в тяжёлый камень, когда они прогуливались где-нибудь вдоль реки; вертляво и глубинно-гнойно срывал каждый яростный, ставший уже истерическим, порыв к Тамаре.
Боль № 2 сокрушала любовь, не давала ей опомниться, не оставляла ни минуты передышки, жгучим, смрадным гвоздём засев в душу Ильи. Всё счастье рушилось.
Илью доводило до слёз, до исступления это нелепое уничтожение; ведь Тамара было по-прежнему рядом, ничуть не изменилась и, ни о чём не подозревая, по-прежнему любила его; вот её родные черты, вот голос, который всё тот же, как в начале любви, вот она – рядом, и вместе с тем он не может её коснуться без боли, без распада и отчаяния; любовь рядом, но он не может любить, у него парализовано сердце, душа, мозг. Стоило хоть лёгким ветерком пронестись в его душе мысли о прикосновении к полу, как сердце его сжималось от тоски, чёрная тень падала на ещё свободную часть сознания, которая пока могла любить. Дело стало доходить до того, что эта смертоносная мысль, если только она не загонялась на какие-то минуты в подполье, нередко мешали Илюше овладевать Тамарой как женщиной.
«Ты целуешь ехидну, врага, ведь она коснулась пола! Она совсем не та, за кого ты её принимаешь!» Дрожью пробегала эта мысль по всему его существу, даже в тем мгновения, когда он обладал Тамарой. Это слова звучали во сне, и чей-то голос хрипло надрывался в своей властной и бесконечной нелепости; иногда ему казалось, что он слышит вой одинокого чёрта, брошенного в послесмертное пространство. Душа Ильи была расколота на две половины: одна отчаянно и беспомощно любила Тамару; другая сжигалась огнём боли № 2, и дым от этого уничтожения обволакивал ещё свободную часть души.
Жить рядом с любимой – и быть бессильным; целовать её – но механически, без всякого блаженства, убитого нелепой идеей; обладать любимой – и ничего не чувствовать; знать, что счастье – около, но реально его нет, – вот на что был обречён Илья. Это доводило его до слёз, до визга, тем более что он страдал один. «Лучше уж совсем её не встретить, – думал Илья, – чем любить женщину, которая на моих глазах превращается для меня в труп. Каждый мой поцелуй отравлен этим ядом. И, главное, было бы уж совсем всё кончено, а то ведь нет – я, допустим, целую её и в первый момент чувствую всю прежнюю прелесть, душа плещется в неземном тепле, и вдруг раз – появляется она, мысль, гадюка, и всё разбито, блаженство сорвано, тепло превращается в жуткий мёртвый холод. Мои глаза, только что растопленные в нежности, стекленеют».







