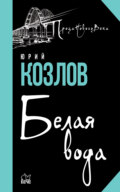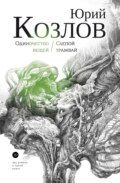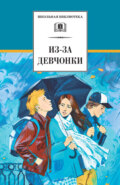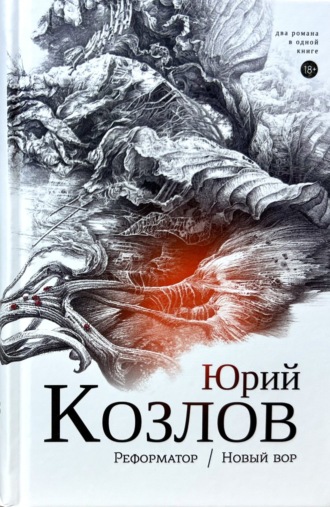
Юрий Козлов
Реформатор. Новый вор. Том 2.
Икона
…Никита Иванович никак не мог вспомнить, когда именно, при каком президенте, до или после отделения Дальнего Востока, введения «энергорубля», марша эстонской армии на Санкт- Петербург, небывалого двухчасового солнечного затмения, когда живая Москва оказалась завернутой в черный (в каких хоронили грешников) погребальный саван, ему в самовозрастающей (как масса сверхновой звезды) полноте открылось, что задумал брат сотворить с Россией.
Если, конечно, допустить, что Савва задумал, а Никите открылось.
Ведь не для того кто-то задумывает, чтобы кому-то открывалось, да к тому же в самовозрастающей полноте. Хотя так называемая полнота в бесконечном (точнее, конгениальном жизни) процессе познания (открытия) представала величиной колеблющейся, переменной. Иногда она (как масса сверхновой звезды) самовоз- растала, превращаясь во все. Иногда – как масса звезды сверхстарой, а может, сверхустаревшей? – самоубывала, превращаясь в ничто. А иногда – застывала в промежуточном состоянии между «все» и «ничто», представая в виде «нечто», точнее, неизвестно чем. Никита плутал в изменчивом триединстве, как в трех соснах.
Когда он сбивчиво и косноязычно поведал об этом Савве, тот долго не мог взять в толк, о чем, собственно, речь. А когда наконец-то взял – удивился и рассердился.
«Сдается мне, тут… нечего понимать. Событиям назначено течь своим необъяснимым чередом, – строго ответил брат. – Все остальное – лишь оформление их во времени и пространстве, то есть так называемая повседневная жизнь. А что есть повседневная жизнь? – и, не давая Никите открыть рта, сам ответил, мистически подтверждая цифровую логику младшего брата: – Гидра о трех – бессилие, бездействие и печаль – головах. Река общей, мы же братья, крови, не иначе, вынесла тебя на песчаную отмель, с которой тебе увиделся мираж. Видишь ли, брат, законченная, когда ни убавить и ни прибавить, картина мира – всегда мираж. Да и отмель, с которой тебе увиделся мираж, в сущности, тоже мираж. Да и сам мир – мираж. Как, впрочем, и мираж – мираж. Из этого замкнутого круга нет выхода, точнее, есть, но в круг разомкнутый, который вовсе и не круг, а… неизвестно что, точнее, неизвестно все. Чем быстрее ты смоешься с этой отмели, – добавил после паузы Савва, – тем тебе же будет спокойнее, ибо истины миражей не есть божественные истины, они скорее – негатив божественных истин. Вот почему, – закончил почти весело, – скорый и незаметный конец имиджмейкеров, политтехнологов, идеологов, а также специалистов секретных служб, как правило, предопределен. Они, видишь ли, действуют так, как будто им, точнее их заказчикам, известен некий окончательный план бытия. Они как бы бросают в живую жизнь дрожжи, от которых та закисает, превращается в брагу, а потом прогоняют эту брагу через самогонный аппарат – мираж. Странным образом, – вздохнул Савва, – во все века, какой бы конструкции ни был аппарат, из краника льется одно и тоже – кровь, слезы и… деньги».
«Пусть так, – не стал спорить Никита, – но при чем здесь скорый и незаметный конец имиджмейкеров, политтехнологов, идеологов, а также специалистов секретных служб?»
«А слишком близенько стоят у аппарата, – недобро усмехнулся Савва, – слишком истово снимают пробу, не дают первачу отстояться. Смерть наступила, – произнес противным официальным голосом, – в результате употребления спирто-, в смысле, деньгосодержащей отравляющей жидкости неустановленного – хотя почему неустановленного? – криминально-преступного происхождения».
«А если я не смоюсь с отмели?» – поинтересовался Никита, который не вполне успевал за мыслями брата, но странным образом чувствовал его фундаментальную – как если бы брат возводил здание с крыши, тогда как надо с фундамента – неправоту. Она заключалась хотя бы в том, что (Никита за минувшие после Крыма годы сделался изрядным чтецом, даже и в Библию успел сунуть нос) Господь сам частенько являлся избранным соискателям истины в виде миража. Сознание же человека вообще можно было уподобить безостановочному конвейеру по сборке миражей. Речь, таким образом, могла идти об утверждении неких общих (рамочных), по возможности основанных на добросердечии и человеколюбии, принципов непрерывного цикла, но никак не о том, что вся сходящая с конвейера продукция – ничто. Ведь именно человеческое сознание (а следовательно, и non-stop-конвейер миражей) являлись средой, равно как и исходным (расходным) материалом существования (осуществления) Божьего Промысла.
«Тогда тебя смоет…»
«Волна крови, слез и денег? – подсказал Никита. – Почему? Я ведь не имиджмейкер, не политтехнолог, не гебист…»
«Называй ее как хочешь, – холодно ответил брат, – но учти, что эта волна не только смывает, но и растворяет в себе без остатка».
«Всех подряд?» – уточнил Никита.
«Я бы сказал так: всех, кто тщится понять, что это за волна, – недовольно ответил Савва, – кто шляется по бережку, мочит ножки».
«Тогда это какая-то серная кислота, – Никите доставляло удовольствие злить брата неуместным конкретизированием вещей абстрактных и, в сущности, недоказуемых. Хотя он склонялся к тому, что недоказуемых вещей, в принципе, нет. Если, конечно, в основу системы доказательств положены универсальные (божественные) принципы добросердечия и человеколюбия. Тогда получалось, что все в мире можно не только доказать (объяснить), но и определить: хорошо это или плохо? – Стало быть, речь идет о каком-то крайне загаженном, опасном водоеме».
Савва, видимо, тоже мог все объяснить и доказать. Но в основе его системы доказательств лежали какие-то иные принципы. Какие именно, Никита не знал, но догадывался. Эти принципы рисовались воздушными замками в туманах над сернистыми водоемами; смотрели глазами Вия из многозначительного молчания власть имущих, сквозили ледяным ветерком в неистовых (адресованных отнюдь не артисту) аплодисментах.
Никита изначально отвергал эти принципы, причем особенно утверждался в их неприятии… во время посещений церкви.
…Никита никому не говорил, что время от времени наведывается по железнодорожному – через Москву-реку – мосту в крохотную церковь на Пресне. Он ходил в нее через гигантскую – как если бы строили новую египетскую пирамиду – стройку, развернувшуюся у самого их дома. Строили, однако, не пирамиду – многосложную транспортную развязку. Сначала строительство резко ушло вниз – в бездонный котлован, затем взметнулось бетонными стропилами выше дома. Ощетинившиеся арматурой конструкции истребляющими пространство челюстями уже висели над Москвой-рекой, нацеливаясь дальше – на Пресню, на тот самый уже почти растворенный в бетоне (как в серной кислоте) переулок, в конце которого цветной точечкой (а если считать по куполам, то многоточием) стояла миниатюрная церковь, Ее вроде бы не собирались сносить, но пейзаж вокруг несчастного храма революционно (перманентно) преображался, В результате циклопической выемки и подъема грунта церковь, некогда господствующая в пейзаже, очутилась на самом дне автомобильной развязки – у въезда в предполагаемые подземные гаражи. Вернувшиеся домой после трудов (праведных?) обеспеченные автовладельцы, таким образом, должны были стать в скором будущем основными ее прихожанами. Уже сейчас между храмом и небом намечалось по меньше мере пять бетонных горизонтов.
Неясность будущего, видимо, была причиной того, что в церкви (пока еще) служили разные (приходящие) батюшки. Однако же в последнее свое появление там Никита узнал у одной пожилой и немного дурной прихожанки, что в церковь назначен постоянный настоятель, что он молодой и из… «новых».
«Что значит из “новых”?» – уточнил Никита.
«Увидишь, – строго поджала губы прихожанка. Она не любила отвечать на конкретные вопросы, потому что ее ответы, как правило, были значительно шире вопросов. Как если бы у нее просили платок, а она… накрывала одеялом. Но и молчать долго она не могла: – Ездит на этом, как его… “Мерседесе”! – странно развела руки и откинула голову назад, словно “Мерседес” был… бочкой на тележке, – Я ему, – продолжила прихожанка, – неровен час задавишь, батюшка! Он мне: не бойся, милая, давлю только чертей и исключительно по пятницам!»
Кое-какой народец, однако, по старой памяти все еще просачивался в церковку: относительно незатрудненно с пресненского берега; и извилистым, постоянно меняющимся муравьиным ручейком со стороны Кутузовского проспекта – по кучам песка под башенными кранами, далее по железнодорожному мосту и вниз, А одна прихожанка так и вовсе прилетала в церковь на дельтаплане, изумляя строительных рабочих (в основном турок) виртуозностью управления этим странным летательным аппаратом. Так что, если большая часть прихожан притекала (ручейком), эта – дождинкой падала с неба.
«Может быть, это ангел?» – спросил Никита у турок, но по тому, как те зацокали языками, заулыбались, понял, что нет, не ангел. Турки махали руками, бежали за снижающимся дельтапланом, как если бы к ним спускалась гурия из мусульманского рая. Никита мечтал познакомиться с этой красивой, как гурия, если доверять вкусу строительных рабочих, девушкой, но мистически не совпадал с ней по времени.
Несовпадение по времени (временное или постоянное), объяснил ему Савва, это не досадное (и – теоретически – подлежащее исправлению) недоразумение, но судьба, с которой, как известно, не поспоришь. А если и поспоришь, опять же объяснил Никите Савва, то как пить дать проспоришь.
«Придет час, – успокоил Савва, – и она свалится вместе со своим дельтапланом прямо тебе на голову».
«Наверное, это будет здорово, но успею ли я порадоваться этому?» – Никите совершенно не улыбалось, чтобы ему на голову свалилась, пусть даже красивая, как гурия, дельтапланеристка.
«Это уже второй вопрос, – усмехнулся Савва, – в любом случае не имеющий для тебя принципиального значения. Если останешься жив, обрадуешься. Если она снесет тебе башку – не успеешь огорчиться».
«А если стану инвалидом?» – поинтересовался Никита.
«Будешь до конца жизни ездить в коляске и не отвлекаться на пьянки и баб, – пожал плечами Савва, – по крайней мере, у тебя появится шанс чего-то добиться в жизни. Как говорится, учись на здоровье!»
Приверженность (быть может, мнимая) божественным принципам добросердечия и человеколюбия сообщала Никите обманчивое ощущение твердости и некоей уверенности в своих (ничтожных) силах, как если бы за его спиной стоял сам Господь Бог. Находясь в, смотря на, выходя из, думая о странной церкви внутри развязки, Никита постигал не только первичные (добросердечие, человеколюбие) очертания Божьей мысли, но и рукотворную мощь пяти бетонных, препятствующих распространению Божьей мысли горизонтов. Иногда ему казалось, что торжествует мысль. Иногда – бетонные горизонты.
Когда казалось, что мысль, Никита был воинственно несогласен с утверждением Саввы, что добродетель, как безродная кошка к теплому дому, привязана ко времени и пространству. Никита полагал, что она главным образом привязана к… душе, которая не столько доказывает и объясняет, сколько чувствует. По мнению же Саввы, нравственно (или безнравственно) было все, что можно было объяснить (сформулировать) словами. Что же объяснить (сформулировать) было нельзя, то было вне-, над-, а может, под- (это не суть важно) нравственно. Не смертных, стало быть, людишек делом было размышлять над находящимися вне (над, под) их компетенции(й) предметами. То есть размышлять-то можно было сколько угодно, вот только смысла в этом не было ни малейшего. К чему размышлять над ходом вещей, если механизм этого хода принципиально непознаваем? К чему расходному материалу, допустим резине, размышлять над тем, что из нее будут делать: галоши, презервативы или автомобильные покрышки?
Никите иногда казалось, что в этом, собственно, и заключается основной конфликт современности, разводящий людей по разным (если уподобить конфликт реке) берегам. Никита знал, на каком он берегу. Но иногда знание пропадало, как будто его никогда не было, и Никита понятия не имел: на берегу он или на невидимом в тумане мосту над рекой, а может, вообще плывет по реке, не видя в тумане берегов?
Река почему-то всегда была в тумане, как если бы туман в месте протекания реки был естественной природной средой. И, вообще, вода ли это была или… серная кислота, в которой, по мнению Саввы, без остатка растворялись пытавшиеся понять… что? Но если они растворялись, думал Никита, что происходило с их (состоявшимся?) пониманием?
Однажды, впрочем, Савва поделился своими предположениями на сей счет: за традиционным – с омарами и красным вином – ужином. Правда, не с Никитой, а с отцом, которого к тому времени вышибли из редакции.
…Отец, помнится, прихватил с собой на улицу Правды в редакцию Никиту, чтобы тот помог донести до машины кое-какие вещички и книги из кабинета.
Новый хозяин превратил газету из ежедневной политической в ежемесячный таблоид, а в освободившихся (если газета выходит не тридцать, а один раз в месяц, то и сотрудников должно быть в тридцать раз меньше) помещениях разместил «Центр предсказания судеб».
Вместо журналистов и политологов по редакции теперь слонялись траченые жизнью сиреневолицые с карминными губами женгцины, гадавшие на картах, на кофейной гуще, по руке, вызы- ваюгцие духов, составляющие гороскопы и т. д. В холле, где раньше на обтянутой кумачом фанерной тумбе высился бюст Ленина, теперь стоял автоматический оракул в виде сидящего в стеклянном ящике манекена в чалме и звездном халате. За брошенный в прорезь (не сказать чтобы очень дешевый) жетон дяденька открывал глаза, внимательно смотрел на клиента, затем медленно опускал руку в примостившийся у ног сундучок. Звучала тихая электронная музыка, из автомата выпадал билетик с предсказанием, после чего звездно-халатный дяденька прикрывал глаза, успокаивался (до очередного жетона) в своем вертикальном хрустальном гробу.
У Никиты не было с собой денег на жетон, однако стоило ему приблизиться (отец отправился ругаться в бухгалтерию), дяденька в чалме вдруг открыл глаза, запустил руку в сундучок, билетик скользнул в железное с прозрачной крышкой, отполированное многими руками оконце выдачи. «Наверное, кто-то опустил жетон раньше», – тревожно (а ну как этот «кто-то» сейчас вернется?) подумал Никита, забирая билет. Единственно, непонятно было, что помешало предполагаемому жетонобро- сателю дождаться предсказания? Куда он делся, козел? В просматриваемом во все стороны просторнейшем холле было тихо, как в склепе. И пусто. Между тем хотя бы спину убегающего (от предсказания?) человека Никита должен был увидеть. Но не увидел. Все это было подозрительно и странно. Впрочем, едва ли более подозрительно и странно, нежели превращение газеты с простым и ясным названием «Россия» в «Центр предсказания судеб».
Некоторое время Никита раздумывал: читать ему чужое предсказание или не читать? Любопытство, однако, пересилило. «Россию-мать узнаешь, если любишь», – вот что было там написано.
Никита подумал, что, если и другие предсказания в таком же духе, восточному дяденьке недолго сидеть в стеклянном гробу. Точнее, недолго этому гробу пребывать в целости и сохранности.
В бывшем отцовском кабинете диковинное, напоминающее веник, на который набросили сушиться истрепанную половую тряпку, существо встретило их гневной тирадой на… итальянском. Самое удивительное, что отец на итальянском же и ответил, хотя ранее не был замечен в свободном владении этим языком.
Существо (при ближайшем рассмотрении оказавшееся пожилой женщиной очень маленького роста, но, может, и карлицей-переростком) стремительно покинуло(а) комнату, поправив на плечах принятый за истрепанную половую тряпку оренбургский пуховый платок, успев, однако, недовольно зыркнуть на Никиту.
Похоже, итальяноязычная гадалка еще только осваивалась в бывшем отцовском кабинете. Большой письменный стол был воинственно (не редакционно) пуст, если не считать хрустального шара на малахитовой (а может, нефритовой) подставке. На подоконнике стояла клетка с попугаем. Попугай, впрочем, не обратил на вошедших ни малейшего внимания, поскольку был занят сухарем. Припечатав лапой к полу, он кривым клювом выщелу- шивал из него последнюю изюмину.
«Он полагает, – кивнул отец на попугая, – что скоро все это закончится…»
«Изюм?» – изумился Никита.
«Что такое жизнь без изюминки? – уточнил отец. И сам же с пафосом ответил: – Жизнь без изюминки есть жизнь без политической свободы, плюрализма мнений!»
Никита хотел было возразить отцу, что с таким же успехом попугай – мнимый истребитель политической свободы и плюрализма мнений – может выковыривать из сухаря (жизни?), допустим, (изюм?) коммунистического рабства, социалистической уравниловки или даже (чем черт не шутит!) исконного российского авторитаризма, но не успел, потому что вдруг увидел собственное уменьшенное и недобро видоизмененное отражение в хрустальном шаре.
Никите не понравилось, что как-то уж слишком основательно (окончательно?) он был интегрирован в хрустальные недра шара, как если бы иной среды обитания для него уже и не предполагалось. Он отошел от стола, желая выскользнуть из шара, но шар продолжал удерживать отражение Никиты, хотя уже нечего было отражать, потому что Никита спрятался за спину отца.
На стоящего же прямо перед столом отца шар почему-то вообще не реагировал, как будто не было у него отражения. Или отец прогулял, растратил (если, конечно, допустить, что оно представляет хоть какую-то ценность) свое отражение, или же шар отражал людей по принципу: кто не успел, тот опоздал. Никите крайне не понравилось, что в шаре он… старик, точнее… предстарик – где-то между сорока пятью и пятьюдесятью. В шаре он был лысым, апоплексичным, с покатыми бабьими плечами и… определенно злоупотребляющим спиртным, причем не самого лучшего качества. На него прямо-таки махануло (из шара?) гаденьким устойчивым перегаром. И еще Никита обратил внимание, что вокруг него (пожилого) в шаре, как Луна вокруг Земли по заданной (кем?) траектории, крутится цилиндрическая металлическая соринка. Никита было подумал, что это муха, но разве бывают мухи без крыльев? Глядя в шар, он вдруг понял, что жизнь быстротечна, а молодость (часть целого) еще более быстротечна, нежели жизнь (целое). И еще понял, что жизнь без (вне, после) молодости – это совсем не то, что жизнь в молодости.
Две жизни, как два встречных поезда, пронеслись мимо стоящего между ними на насыпи Никиты, обдав смешанным запахом надежды и тщеты. Надежда пахла… разогретым мотором, «Еаг1 Grey Tea», цветными глянцевыми фотографиями, духами «Chanel № 19», придушенным дезодорантом (возбуждающим) потом и определенно айвой. Тщета – высохшей мочой, несменяемым постельным бельем, истоптанными тапочками, ладаном и… подгоревшей кашей.
Никита подумал, что, вероятно, именно эти – случайные – запахи посетят его в смертный час. Вот только непонятно было, почему генеральная репетиция (если, конечно, это репетиция, а не, так сказать, премьера) происходит так рано?
Вроде бы ничто не угрожало Никите в бывшем отцовском кабинете.
Одного-единственного взгляда было достаточно, дабы уяснить: внутри шара пожилой Никита одинок, неприкаян и… несчастен, хотя, быть может, и не осознает собственного несчастья.
А когда, подумал Никита, человек не осознает собственного несчастья? Человек не осознает собственного несчастья, сам собой явился ответ, когда люди вокруг точно так же (или еще более) несчастны. Тогда, напротив, собственное несчастье иной раз человек воспринимает как… счастье.
С человечеством что-то случится, догадался Никита, вот только что? Неужели его заедят металлические цилиндрические мухи без крыльев?
Самое удивительное, что и одет внутри шара он был не так, как если бы отражался нормально, то есть в чем в данный момент был.
На пожилом алкаше-Никите болталось безразмерное нищенское рубище, в руках он сжимал идиотскую, с ушами как закрученные бараньи рога, шапку, В России такие сейчас определенно не носили. Хотя, кто знает, какие шапки будут носить в России, когда Никита доживет до «шарового» возраста? Может быть, только такой вот рогатой шапкой можно отгонять железных мух? Может, он вообще должен радоваться (воспринимать как счастье?), что доживет до столь преклонного возраста?
Тем временем в кабинет вернулась итальяноговорящая карлица.
«Почто держишь хозяйку в сумасшедшем доме?» – сумрачно осведомилась у отца уже на русском, но несколько архаическом, как если бы в использовании языка у нее случился немалый (в век, а может, и больше) перерыв.
«Видишь ли, хозяйка расстраивается от политики, – совершенно не удивился дикому вопросу отец, – смотрит телевизор и… – понизил голос, – перестает верить в Бога, Теряет контроль над потоками информации».
«И все же взял бы ты ее домой, – покачало головой существо, – среди своих-то спокойнее, чем на людях».
«Боюсь, опять начнет пить, – покосился на Никиту отец, – да и не уверен, что свои спокойнее чужих».
Никита понял, что речь идет о матери. Откуда карлица ее знает? – удивился он.
«Не удержишь», – сумрачно предрекла гадалка, Никита, правда, так и не понял кого: «хозяйку», то есть мать, или «своих», то есть его и Савву, А может, она имела в виду «чужих», то есть человечество? В сущности, она была права во всех трех случаях, то есть права абсолютно и окончательно.
Мир был неудержим.
Уместив в несколько сумок служебные отцовские пожитки – книги, рюмки, канцелярские принадлежности, несколько непочатых подарочных бутылок в картонных коробках, они двинулись к лифту.
«А ты, паренек, – произнесла карлица в спину Никите, – от написанного не отмахивайся! Не для того оно попадается на глаза, чтоб отмахиваться!».
«Откуда она знает про мать?» – поинтересовался Никита у отца уже в коридоре.
«Эти гадалки, – вздохнул отец, – любят болтать по-итальянски, делать вид, что что-то знают, А в остальном… удивительно бесполезные особы! – произнес с выстраданной убежденностью. – Никчемные прыщи на коже человечества. Но… чешутся. Не чеши, не обращай внимания. Само пройдет».
Уйдя из газеты, отец немедленно (как будто не писал об этом два года кряду) забыл про благотворные для экономики финансовые пирамиды, про добрых отечественных предпринимателей, собирающихся возродить великую Россию.
Теперь он сотрудничал даже не столько с патриотическими, сколько с какими-то социально-сюрреалистическо-эзотерическо-астрологическими изданиями, названия которых – «Третья стража», «Натальная карта», «Прогрессивный гороскоп», «Солнечная революция» – мало что говорили рядовому потребителю печатной продукции. Да и продавались эти издания не в киосках, а в определенных местах у определенных (на вид тронутых умом) людей в определенное время, допустим, с трех до семи в переходе между станциями метро «Охотный ряд» и «Театральная площадь». Может быть, именно в это время по переходу шествовала невидимая миру «Третья стража», осуществлялась в небесах «Солнечная революция», «Прогрессивный гороскоп» одерживал верх над… гороскопом реакционным?
В своих статьях отец называл власть не иначе как «сборищем казнокрадов и духовно-нравственных, ушибленных Сатурном уродов», терпящий же эту власть народ – в лучшем случае «стадом Неба», в худшем – «быдлом Горизонта». Одна из отцовских статей, помнится, так и называлась: «Между стадом и быдлом».
Савва усмотрел в этом названии наглядное проявление экзистенциальной немощи социально-сюрреалистическо-эзотерическо-астрологической оппозиции, идеологом которой вдруг объявил себя отец. По его мнению, между стадом (Неба?) и быдлом (Горизонта?) не было… ничего, а вот над стадом и быдлом онтологически (Никите, правда, послышалось: отечески) возвышалась фигура пастуха с кнутом, наличие (или отсутствие) которой, собственно, и определяло превращение стада в быдло и наоборот.
«Человечество не может социально или духовно самоорганизоваться посредством знаков Зодиака и атмосферных терминов, – помнится, заявил Савва, – человечество может самоорганизоваться исключительно посредством… нечеловеческой воли конкретного человека».
«А почему не Господа нашего Иисуса Христа?» – возразил, помнится, Никита, только что вернувшийся из упрятанной в бетон церкви и еще не утративший благоприобретенной просветленности,
«Потому что, видишь ли, в планы Господа нашего Иисуса Христа, – ответил Савва, – самоорганизация человечества не входит. Но самоорганизация конкретного человека, быть может, входит, чтобы тот, значит, в свою очередь понудил человечество к самоорганизации, но, так сказать, без компрометации Господа, то есть как бы по собственному почину».
«И этот человек… ты?» – усмехнулся отец.
«Нет, – вздохнул Савва, – но я ищу его днем с огнем».
«И не находишь?» – удивился отец.
«Уже ослеп от дневного огня, – сказал Савва, – а человека нет как нет».
«Может, ищещь не там?» – спросил отец.
«Может, не там», – не стал спорить Савва.
«Самый верный признак, – сказал отец, – когда беспричинно девки любят. Это – или есть, или нет. Все остальное – можно приобрести, добавить, присовокупить, наработать, выстрадать и присвоить при наличии, так сказать, заинтересованных людей. Отчего сам не хочешь?»
«Беда в том, – с грустью ответил Савва, – что больше всего они любят подонков, алкашей, сутенеров, лжецов, воров и многоженцев, более всего же ненавидят тружеников, философов, верующих, умеренных в грехе, истинно нравственных и ответственных мужиков. Сдается мне, они любят меня по ошибке. А если не по ошибке, то… по убывающей. К тому же мне не дано обливаться слезами над… вымыслом, – вздохнул Савва, – социальным вымыслом. Слезинка ребенка, голодный хрип старца, сладкий стон любви для меня всего лишь частности. Я не смешиваюсь с жизнью, как бензин с водой. Мои крылья устроены таким образом, что народное горе, равно как и народное счастье, надежда, мечта, тщета и так далее, включая беспричинную любовь девок, их не колышит. В мои крылья задувает иной ветер».
«Какой же?» – усмехнулся отец.
«Тебе ли не знать», – внимательно и строго посмотрел на него Савва.
«Свинцовый ветр судеб – судебный ветер, – процитировал неизвестного поэта, но, может, и самого себя отец. – Кто ищет, тот рано или поздно находит. Что бы ни искал».
«Или искомое само находит искателя, что, в принципе, не имеет значения, потому что жизнь конечна, а смерть бесконечна, в смысле, что искать-то можно что угодно, но смерть найдешь всегда», – вздохнул Савва.
«Где троица, там ответы на все вопросы. Свинцовый, судебный, один хрен, смертельный. Что тебе тут неясно?» – спросил отец.
«В принципе, все ясно, но есть нечто в протяженности между определениями. И это нечто слаще… жизни», – завершил странный разговор, как, впрочем, и большинство их разговоров за вечерними трапезами, Савва.
Нечего и говорить, что денег «Натальная карта», «Солнечная революция», «Третья стража», «Прогрессивный гороскоп» и т. д. не платили, а если платили, то ничтожные.
Данные издания были выше денег.
После выгона из редакции газеты «Россия» отец мог себе позволить лишь обычную (подарочная в красивых коробках быстро закончилась) водку, отечественное же скоропортящееся (и скоро меняющее названия – «Старый мельник», «Три толстяка», «Добрый молодец», «Пей не хочу» и т. д.) пивко, дешевые (из полиэтиленового пакета) замороженные пельмени, но никак не натуральное французское вино, черную икру, спаржу и омаров.
Стол (кстати, еще с большим, нежели прежде отец, размахом и изыском) обеспечивал отныне Савва, неожиданно возглавивший некую всероссийскую студенческую ассоциацию «Молодые философы за президента и демократию», а потому и темы застольных бесед задавал он. Отцу, таким образом, оставалось только есть-пить, слушать и не перечить. Если же перечить, то смиренно, вежливо и неоскорбительно-доказательно, как и положено угощаемому.
Отец, однако, не желал мириться с подобным положением дел, готовясь к ужину, ставил возле себя на угол стола водку, пиво, просроченные – с оптовой продовольственной ярмарки – маринованные огурцы, серые, как глаза василиска, пельмени в тарелке. И, когда на манер Льва Толстого «не мог молчать», как, впрочем, и пить и закусывать, решительно переходил на суровые персональные хлеба. Когда же беседа вновь втекала в согласные берега, легко снимался с них, возвращался на богатые и прихотливые хлеба Саввы. Воистину, государство заботилось о молодых философах, приверженцах демократии и президента, как о возлюбленных детях своих.
…Был конец сентября, а может, начало октября. Мокрые листья шумели за окном, как хор в древнегреческой трагедии или безмолствующий (в смысле заявления своей гражданской позиции) народ в трагедии Пушкина «Борис Годунов». Переходя из сентября в октябрь, осень споткнулась, и в дверь (если, конечно, между месяцами есть дверь) просунулось минувшее лето.
Неурочное тепло наводило на мысли о случайности (непредсказуемости) бытия вообще, равно как и о ненадежности (непредсказуемости) собственного бытия внутри (вообще) бытия: теплого дождя, шумящих листьев, прогуливающейся (когда не было дождя) в шортах и майках молодежи. Вернувшееся лето высвободило упакованную было в плащи, куртки и т. д. юную плоть, широко разметало ее по улицам, скверам и дворам.
Никиту манил распираемый юной плотью вечерний двор, но еще больше манил его накрытый на кухне стол, то есть плоть собственная, хотя, конечно же, Никита уверял себя, что не жратва его интересует, а умные – отца и Саввы – разговоры.
Откусив непроглатываемый, так что пришлось прикрыть ладонью рот, будто он собирался зевнуть, кусок ананаса с неожиданным прихватом крокодиловой кожуры, Никита уставился рачьими глазами из окна в черное небо, одновременно уминая языком взрывающийся сладкими гейзерами ананас и досадуя на прикипевшую к небу крокодилову кожуру. Над Москвой-рекой, над деревьями, над циклопическим строительством сквозь выступившую от челюстного напряжения слезу ему вдруг увиделся стремительно летящий вверх, то есть царапающий, падающий в небо огонек. Воистину, нечто неуместное происходило с его нёбом (крокодиловая ананасовая кожура) и с… вечным божественным небом (царапающий огонек). У Никиты мелькнула совершенно идиотская мысль, что, быть может, это красавица-дельтапланеристка летит сквозь дождь в спеленутую бетонными подъемами и спусками, как Лаокоон змеями, церковь. Вот только что ей там делать ночью?
Никите сделалось стыдно, что красавица (с неясной, правда, целью) бесстрашно летит в ночи на дельтаплане, в то время как он жадно давится ананасом, сторожа слезящимся глазом омара, – почему-то Никите казалось, что на омара нацелился отец, а он, стало быть, должен обязательно его опередить. Зачем, ведь я не голоден? – ужаснулся позорной слабости Никита, но слабость (она же страсть) была сильнее его.